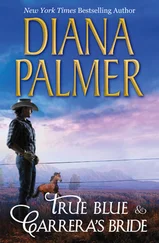Для развлечения Захар решил приготовить лобио по-батумски. В хозяйстве вегетарианца Лёши мясорубки не водилось, и он пошел за ней к соседу. Оксана с дивана с усмешкой смотрела за процессом, словно на первую репетицию плохо выучившего ноты оркестра. Равнодушный к еде, Захар умел играть простые кулинарные чижик-пыжики: рис-картошка-макароны-рис, не уважая этот вид усердия. Пока варево стыло в снегу, он сходил на станцию и купил красное вино. Сели за стол, включили музыку. Хоть он делал все на глазок и по памяти — ему показалось, что получилось адекватно. Разноображенный его гастрономическим номером, вечер прошел весьма удачно.
Днем они обычно гуляли. Ее надо было развлекать, ей нельзя было давать ни секунды задуматься, ослабнуть, загрустить. Но сегодня ей не захотелось никуда идти:
— Иди один, — сказала она спокойно.
Сладкая березовая тоска наличников, вечная “ж” веранд. Отлучившийся за заборы лес — звал укрыться под свои ветви. Там так сладко, спокойно. Город — оторвавшаяся от безобразной материи чистая духовность. Деревня зимой — плутание души в деревьях, сон, успокоение. Не то смерть, не то мудрость.
Вернувшись, он застал ее быстро прячущую какой-то лист.
— Что это?
— Неважно, так, глупая писанина.
Она быстро порвала и кинула в печь.
Вечером, когда она одна, в свою очередь, пошла гулять, он дотошно исследовал печь. Письмо было мелко, очень старательно изорвано и перемешано с золой и углями. Он разыскал почти все клочки, разложил их на полу. Это напоминало игру в “паззл”, где в конце концов должен был возникнуть какой-то смысл. Получившееся он склеил скочем. Вышел один тетрадный лист, с двух сторон исписанный ее аккуратным детским почерком:
Господи, Господи! Как жить? Зачем (любимый вопрос). Если бы кто мог вообразить, чего это стоит… Быть куклой, вещью… Нет, это пустяк. Вот, наконец, способ узнать, что такое пустота. Бесконечная, непреодолимая. Нет желаний. Нет даже желания желаний. Вот теперь, видимо, действительно не хочу жить. Раньше — дурацкая поза. Что-то вроде пошлого декаданса. А главное — не хочу хотеть жить. Незачем. А значит же — это-то и было нужно. Если с такой готовностью отказалась от всего. Воля к самоуничтожению. Никогда не умею сказать “нет”. Проще (а значит и удобнее) — отдать. Возьмите — даже если последнее. Он никогда не увидит (да и не захочет даже взглянуть на ситуацию) моими глазами. Он не умеет смотреть чужими. Тут ничего не поделаешь. Когда я думаю, как он все это видит, я понимаю, что иначе и не могло получиться. У меня (злые, плохие) отняли мое. Меня же обидели, обобрали. Я ушел (оскорбленный). Теперь я благородно тебе все простил (дряни). И ты же еще не ценишь (дрянь). Ужас. Ужас. Ужас. (Шутка.) Мне нет дела, что ты потеряла, не надо было у меня отнимать. И даже никогда не увидит, не поймет, что я ему отдала. Всю жизнь. Больше у меня нету. Меня может понять сейчас только один человек, который сам тоже от всего отказался. Чего бы это ни стоило.
Ему удобнее считать это страстью. Пусть. Вот тут я не унижусь до объяснений. Этого никому нельзя знать. Не положено. Он никогда не сможет увидеть, как я его, такого несчастного, не смогла оттолкнуть, как его больные глаза… Господи, где взять мужества? Другие, в ком жизнь кипит, смогли бы перешагнуть, во мне жизни нет, видимо, настоящей. Имитация жизни. Самочка-обманка… Будем играть. Show-time.
Зачем я ему с выжженным нутром? Неужели не видит? Или это уже не важно? У меня жизни нет, и у тебя пусть не будет. Говорит, расплачивайся. Сам-то готов расплачиваться? Говорит, расплатился. Значит, так и есть. Господи, скорее помереть, не мучай. Только не 10 лет, не 20, не 30… Рак, спид, другое рожно, все равно. Нельзя заглядывать в рай. Никогда не забудешь. Все кончено. Никогда. Никогда, никогда тебя не…
Вот, он совсем сошел с ума: перехватывает предназначенные печке “записки” — чтобы знать, о чем думает она, когда у нее темнеет лицо, а в глазах — слезы. На глазах у Лёши они вели тонкую войну из намеков и недомолвок, внешне храня веселье и трогательное согласие. Минуты слабости и самоотречения кончались страстными примирениями. Он не верил в ее силы, он боялся ее самоотверженности и смирения: он не имел желания испытывать их и пользоваться ими. Он все же надеялся на любовь… Все же, как бы ни было плохо — это лучше страшной пустоты его недавней гибели здесь. Утонченной жизни погребенного заживо.
Их погубил дух легкости, невыносимой легкости. Умение не смотреть на вещи, уклоняться от трагедии. Они уже теперь пробовали веселиться, произносить милые пустяки… А ведь ничего еще не кончено, не изжито — да и не могло быть изжито, стоило лишь копнуть вглубь. Нового существования не было, они пробовали продолжить старое, до трагедии, с поправкой на случившееся, но не упоминая радио и все около-него-бытие. Поэтому жизнь казалась отброшенной на полтора года назад… но со страшной болью, стоило только отвлечься от произнесения или слушания телеги.
Читать дальше