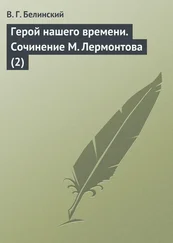— Ну да, а на следующий день к нему придут бандиты. На бандитов работать? Не стыдно?
— Ну при чем тут это, Андрей! Я же не говорю, что всё хорошо! Но работать и зарабатывать можно… а если человек не хочет работать, значит, сам виноват.
— Мы еще попутно разрешили вопрос о свободе воли, — ядовито сказал Андрей Иванович и даже оскалил зубы в усмешке. — Августин, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Энгельс… — Андрей Иванович сыпал философами почти наугад, потому что с мнениями классиков был знаком большей частью по справочной литературе и в значительной мере довольствовался собственными умозаключениями; впрочем, он был уверен, что Евдокимовы в этом ни уха ни рыла не смыслят и даже не знают, что такое “свобода воли”, — …Гуссерль, Кьер… кегор, — столетиями ломают друг о друга копья и перья, а тут раз! — и готово.
— Какая еще свобода воли? — недоуменно-недовольно спросила Евдокимова. Евдокимов сидел со слабой терпеливой улыбкой на губах.
— Вот я беру бокал, — Андрей Иванович торжественно протянул руку и взял бокал. — По своей ли, полностью независимой от окружающего меня мира воле я взял бокал? Или в окружающем меня мире произошли какие-то изменения, подействовавшие на меня, на материю моего мозга, который, в свою очередь, с необходимостью побудил мою руку поднять бокал? По своей ли собственной воле человек ленив и дурен, свободен ли он в выборе между добром и злом? Или он ленится и подличает по своей природе, своему строению, своей генетике и воспитанию… но воспитанию опять же только в той мере, в какой генетика позволит его воспитать? Вот человек украл — а мог ли он не украсть? Штангист не может поднять штангу весом в триста килограммов — нет сил у тела; а может быть, вор не может не украсть — либо у него вообще нет свободы воли и мир полностью управляет его… определенным образом устроенным мозгом, его волей, либо какая-то свобода есть, но его мозг по своему строению слаб и не может противиться искушению. Если человек состоит только из клеток, то как он может быть ответственен за строение этих клеток? А если мы допустим существование души и Бога, то там вообще сам черт голову сломит… Но вы, оказывается, всё уже выяснили: сам виноват!
— Философия, — неожиданно грустно сказал Евдокимов.
— Глупости это всё, — с сердцем сказала Евдокимова. — И правильно, что твой Спиноза шлифовал стекла. За такие рассуждения еще и деньги платить? Работать надо, а не рассуждать. Каждый человек сам хозяин своей судьбы.
Это “надо работать” — она работает, он не работает! — совершенно сокрушило Андрея Ивановича… ударило его тем больнее, что в этих словах была доля — и немалая — истины: в последнее время на душе у него было так тяжко, что работать в полную силу — самозабвенно, отрешенно от мира, переселившись на время работы в иной, недоступный этому мир — он просто не мог: у его разума не было сил вырваться из внешнего мира. Одиночество не спасало, в институте же целые дни уходили на бесплодные разговоры… Да, он не работает. И впереди сокращение…
— Да какой же хозяин своей судьбы, — тихо сказал он, как будто даже упиваясь сладкой мукой последнего, непоправимого унижения. — Вы родились сильными и умными, а я глупым и слабым. В чем я виноват?… — Андрей Иванович не выдержал и встал. Ему было так плохо — тоскливо, тревожно, что казалось — задержись он на миг, и произойдет что-то страшное. — Я пойду, извините… я что-то…
И вышел вон.
Юркнув в тенистый — спасительный — полумрак своей комнаты, он осторожно, стараясь не щелкнуть катком замка, притворил за собою дверь. Как бы он хотел ее запереть! — но это было бы совсем уже неприлично. Проклятые приличия, отравляющие, убивающие жизнь! Человеку мучительно даже видеть чужое лицо, а он должен сидеть и вести разговоры с гостями… Покоя дайте, покоя!
Андрей Иванович торопливо вытряхнул из пачки сигарету, скрипуче щелкнул дешевой зажигалкой. О счастье! — сигарета в одиночестве, тишине… по крайней мере этого у меня не отнимут… По комнате, голубоватый на ореховом фоне книжных шкафов, поплыл струистый дымок. За окном синел уже вечер; желтая стена соседнего дома потемнела до горчичного цвета, суриковая крыша с ажурной порослью телевизионных антенн налилась фиолетовой чернотой. Андрей Иванович вышел на балкон.
…— Кр-ра-а-а!…
Андрей Иванович вздрогнул: он, может быть, и не вовсе забыл о птенце, но в своих мыслях и чувствах был так далек от него, что птенец если и всплывал из глубин подсознания, то тут же без следа погружался обратно… Андрей Иванович посмотрел в угол балкона: вороненок, распластав глянцевитые черно-белые крылья, лежал на брюхе, запрокинув черноглазую голову и разинув черный с алым исподом клюв. При виде птенца Андрей Иванович ощутил вдруг такую слабость, что ему захотелось сесть; никакой разумной причины этому не было — и он тут же почувствовал прилив острого раздражения против себя: даже такой пустяк, как продержать птицу ночь на балконе, у него перерастает в проблему!
Читать дальше