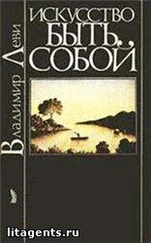Сначала коротенькая притча. Д.Лаэрций пишет: “Когда Диоген попал в плен и был выведен на продажу, то на вопрос, что он умеет делать, философ ответил: властвовать людьми — и попросил глашатая объявить, не хочет ли кто купить себе хозяина? Ксениаду, который купил его, он сказал, что хотя он и раб, но хозяин обязан его слушаться, как слушался бы врача или кормчего, если бы врач или кормчий были бы рабами”.
Тут, как говорится, комментарии излишни, а лучше подойти к картине Хаима Сутина “Слуга”. Х.Сутин — художник из России, он жил перед Второй мировой войной во Франции.
Кто был на Хаммеровской выставке в Москве, тот, может быть, помнит это полотно, висевшее, на мой взгляд, очень удачно в самом центре экспозиции. Сюжета вроде бы и нет, но это только кажется, настолько все напряжено: сидит на стуле человек, одетый соответственно названию. Но, впрочем, нет, он не сидит, он на секундочку присел на краешек передохнуть; бедняга, видно, замотался и получил за свои старания жестокий мордобой. Его так только что отодрали, что одно ухо у него оказалось на макушке. Во взгляде у него затравленность и безысходность, но видно, что ум и доброту из него побоями вышибить нельзя, человек осознает свое ужасное положение; унижениям и издевательствам не будет ни края, ни конца, но он с этим не согласен и в животное не превратится никогда.
Это полотно полно крика. Красками, оказывается, можно передать крик, его слышно, вернее, видно: немой вопль униженного человека и грозный рык хозяев.
Вот сейчас он переведет дух, слушая брань и угрозы одним здоровым ухом, вскочит и побежит за очередной порцией хозяйской благодарности; сил нет, но надо вставать, а то второе ухо оторвут.
Я полчаса не мог уйти от полотна, стоял и чуть не плакал; я понял все, что Хаим хотел сказать, я ему благодарен, я понимаю, кто я есть и кто мы есть — евреи.
Проходит мимо меня пара: дама впереди, сановник (видимо, от искусства) сзади, ни на людей, ни на картины не глядят, пришли отметиться, что были.
— Стоят жиды, на Хаима своего любуются, — говорит дама громко куда-то в пространство. — И что нашли хорошего?
Муж сзади — эдакая проконьяченная псевдозначимость, такие, отрешенные от всего земного обычно в президиумах сидят в первом ряду, что-то хрюкнул одобрительное, проплыл и бровью не повел. Пошел, наверное, опять к корыту с отрубями…
Очнулся я от своих мыслей и слышу голос реб А.К.:
— А вы заметили, как изменились глаза у людей в последнее время? Пустые стали, как у статуй, а то и вовсе поисчезали с лиц.
— Какие глаза, лиц уже нет, — опять встреваю я. — Не верится, что Бог создал людей по образу и подобию своему.
— Не надо богохульствовать, вам это может очень повредить, — парирует учитель и наставник веры. — И не берите на себя так много, вам это может оказаться не под силу.
Опять он прав. Но почему меня все время что-то подталкивает поцапаться с этим раввином, хотя я знаю, что интеллектом и эрудицией он на порядок выше.
Мы будем с ним друзьями, я это чувствую, но сначала мы должны поссориться. Интересно, о чем он говорил, пока я думал о своем? Спрошу у Минаше в метро, Минаше — он педант, он все записывает и запоминает.
Евреи, евреи, кругом одни евреи, — в каком-то, видимо, озарении сказал Владимир Высоцкий.
И, действительно, мы стоим вчетвером в центре зала станции метро “Пушкинская” у перехода, и миньян в незаконном составе продолжается под землей, в самом центре Москвы, под ногами у Александра Сергеевича, в сердце России, можно сказать, хотя кое-кому это и может показаться святотатством. Куда подевался этот дед из “Памяти”, не знаю, а ведь он мог пропустить самое интересное. Надо в ту фирму звякнуть, чтобы ему прогул поставили.
Когда собираются два еврея, может возникнуть революционная ситуация и наверняка образуется три политические партии, исповедующие взаимоисключающие идеалы. Три еврея — это, как минимум, кубанский казачий народный хор, а уж когда их четверо, то лучше остановиться и послушать, тем более, что мы не обращаем внимания на окружающих.
— Ну чем еврей отличается от гоя, от нееврея, скажем, от русского, — спрашивает Зуня-староста.
— Упрямством, — говорит полувоенный Бронислав, — я знаю по себе.
— Непримиримостью к несправедливости, — добавляет Минаше, — я столько тумаков за это получил.
— Любовью к детям и семье, — улыбается Зуня, — еврей, как правило, примерный семьянин.
— Мнительностью и комплексом вины, — говорю я. — А еще?
Читать дальше