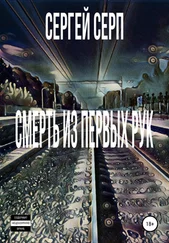Рэнкины вылетели в трубу не то в третий, не то в четвертый раз. Им пришлось заложить одежду, чтобы было на что купить хлеб. И когда Дженни пришла ко мне занять денег и рассказать о своей беде, ей было не до улыбок. Но она уже не плакала, как раньше. Не винила правительство, не ругала предпринимателей или врагов Рэнкина. Она забралась ко мне на колени и уткнулась головой в плечо. Смешное это было зрелище. В тридцать два года Дженни выглядела заезженной поденщицей. А я только что вышел из больницы. Дженни вздохнула разок-другой. И все. С чувством, как говорится. Правда, чувства было столько, что у меня все внутри перевернулось. «Не тужи, старуха, — сказал я. — Жизнь еще повернется к тебе парадной стороной». Но она только покачала головой: «Что же она не поворачивается?» — «Так это ж еще не жизнь». — «А что же?» — «Не знаю, так, обстоятельства, наверно». В общем, до нее начало понемногу доходить. «Брось, — сказал я. — К чертям все это. К дьяволу». — «Но Роберт так мучается — ужас, как мучается. Никогда не думала, что человек может так терзать себя. День и ночь. Как он еще только с ума не сошел! Он убьет себя. Вот увидишь, убьет». — «И не подумает, — сказал я, — особенно если грозится». — «Он уже не раз говорил, что наложит на себя руки, и он это сделает». — «Беда Роберта в том, что он не умеет смотреть в лицо жизни, обстоятельствам, если угодно. Он хочет, чтобы они сами стлались ему под ноги. А они не могут, не могут стлаться под ноги. Могут только обрушиться и стереть в порошок, как груда камней в сошедшем с рельсов составе. Твой Роберт просто накрутил себя, да и ты тоже». — «Как я могу оставаться спокойной, когда он так мучается!» Что я мог возразить? Дженни была преданной женой. И она не могла разлюбить Рэнкина так, с бухты-барахты. Она могла простить, когда били ее, но не Рэнкина. Только не это. И поэтому она ушла с тем, с чем пришла. Никто на свете не смог бы ей помочь. Ей оставалось, как говорится, идти навстречу своей печальной участи.
Вот так и со стариками. Даже с теми, кто сумел захватить ключ к вечным радостям. Вдруг, ни с того ни с сего они становятся тихими и задумчивыми. Безразличными к почестям и победам. Как Планти, при всем его нынешнем могуществе. По-моему, он не придавал большого значения лести и заигрываниям всяких Бородавочников. И улыбка его, как мне показалось, была уже не та, что прежде. Когда с утренним ветерком до старика доносится последний звонок, улыбка его становится какой-то рассеянной, словно он к чему-то прислушивается. Акт вежливости, не больше. Возможно, он и сам не знает, улыбается он или плачет, и, пожалуй, ему все равно, лишь бы быть чем-то занятым. И безразлично, что говорить, лишь бы заполнять пустоты в разговоре и чувствовать удовлетворение оттого, что еще существуешь. И потому я не стал спрашивать Планти, над кем он смеется — надо мной, над собой или еще над кем-то. Я занялся собой, погрузился в свои мысли.
По правде говоря, несмотря на мучивший меня кашель — следствие отвратной погоды — и некоторое беспокойство, вызванное отсутствием денег, я провел с Планти чудесный, мирный вечер у камелька. И хорошую ночь на стульях. И хотя мне не спалось, я наслаждался превосходным видом на небо, открывавшимся через верхнюю часть окна. Небо было похоже на взбесившуюся киноленту. Всю ночь, крутясь в неистовом вихре, неслись по нему головы, руки, носы, голые ноги и прикрытые штанами ягодицы, пушки, шашки, цилиндры. Иногда появлялась вальяжная дамочка в изящной позе, но не успевал я подмигнуть ей, как она расплывалась в огромный шар, теряя то руки, то ноги, или превращалась в повозку с боеприпасами, которая катилась по трупам.
Планти тоже не спал. Всякий раз, поворачиваясь в его сторону, я видел, как поблескивают его глазки, уставившиеся в потолок. Не знаю, о чем он думал. Мысли стариков — их тайна, и никому не дано проникнуть в нее. Только раз, когда подо мной скрипнули стулья, он спросил:
— Вам удобно, мистер Джимсон?
— Вполне, мистер Плант. Что это вы не спите?
— Выспался уже. А вам хорошо спится?
— Как в люльке, — сказал я. Друзьям надо говорить, что жизнь хороша, брат. Меньше хлопот. И больше времени, чтобы пользоваться жизнью.
Письмо Коукер мне не понравилось. Мне показалось, что она способна наломать дров. Поэтому в первый же субботний вечер, когда мамаша Коукер, по всем данным, должна была шнырять по рынку, чтобы купить мяса по дешевке, я отправился к старому сараю. Заглянул в окно. Никого. Но изнутри слышались какие-то звуки, словно кто-то, чертыхаясь, отбивал котлеты. Раньше, когда я подслушивал у сарая, оттуда доносился голос мамаши Коукер. Этакое завывание. Словно зимний ветер, тихо скуля, потревожил сломанный варган. Теперь же звук был иной. Словно волочили груду рельсов по Пиклхерринг-стрит. Похоже было, что это Коуки развоевалась, как бывало. Поэтому я решился стукнуть в окно.
Читать дальше