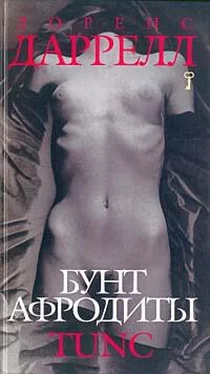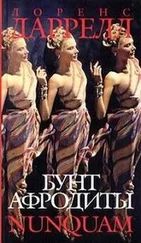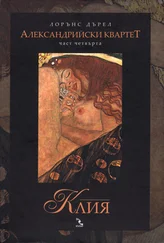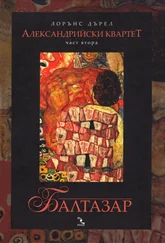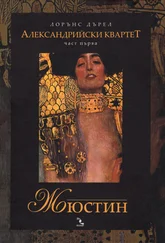Я вернулся к камину, чтобы допить, что оставалось в стакане, и поразмыслить о маленькой фотографии в серебряной рамке. Кот куда-то скрылся. Слышно было, как в кухне возится слуга. Я сидел, погруженный в свои мысли, глядя в огонь и едва не засыпая. В любом случае, подумал я, нужно ещё раз взглянуть на руки Джулиана, хотя бы из любопытства. По крайней мере, он не мог мне этого запретить! Странно было чувствовать себя, словно нищий, просить встречи, как милостыни, а потом вдруг снова впадать в ярость и мучиться раскаянием. Едва я услышал его голос, меня захлестнула волна симпатии к нему. Я растаял. Меня озадачивала подобная собственная двойственность — и я предположил, говоря словами Нэша, что все это объясняется нервным напряжением, психологической усталостью, вызванными трудными отношениями с Бенедиктой. В старину такое состояние называли более выразительно — нервная лихорадка. Мы не можем установить причину болезни или неадекватного поведения человека — когда, к примеру, происходят мозговые или нервные нарушения, — мы только и в состоянии что пришлёпнуть к ним медицинский термин, как-то назвать, даже если это название не имеет никакого смысла.
Я выпил далеко не один коктейль из серебряной коктеильницы, когда мне пришло в голову посмотреть на часы; было ещё не так поздно, как я думал. Я пошёл пешком через весь Лондон на Маунтстрит. Дул резкий холодный ветер, шумели парки. Будучи в подавленном настроении, я едва замечал, как шагаю по тротуарам столицы между тёмными коричневыми домами, мёдленно и ритмично, в такт дыханию. И обыденная реальность вокруг меня, оттого что, погруженный в свои мысли, я видел её словно расфокусированной, облёклась странным сиянием — делавшим её будто нематериальной. На Бондстрит грузовик обдал меня дымом из выхлопной трубы, и из кузова вывалилась сотня позолочённых стульев. Они летели, как река, и, падая на мостовую, подпрыгивали, словно танцевали друг с другом некий танец восемнадцатого века, прежде чем замереть в реверансе. Они явно предназначались для бала в каком-нибудь посольстве. Позже, на узкой улочке, женщина выронила большую кожаную сумочку, которая взорвалась на тротуаре россыпью сотен мелких монет. Тут же муравьиные колонны прохожих, нарушив строй, бросились помогать ей подбирать их — они раскатились во все стороны, даже на середину улицы. В мгновение ока каждый превратился не то в ловца змей, не то в грибника. Женщина стояла с раскрытой сумочкой, растерянно оглядываясь, готовая расплакаться; добровольные помощники подходили один за другим и наполняли сумочку подобранными монетками. Я стоял и просто наблюдал за происходящим. С той улицы и дальше, к щелчку ключа в двери, молчаливым услужливым слугам, к моим плёнкам и бумагам. Слава богу, мы ещё не закончили с Ханом. «Современная архитектура отражает низменный вакуум мышления обывателя». Так, но надо убрать с дорожки другие голоса, раздражающие и мешающие голоса, — многие из них принадлежат непонятно кому; но кое-какие из этих неведомых голосов звучат довольно отчётливо, и стоит их сохранить. Например, вот этот, говорящий: «Когда Мерлин был совсем плох, он вызвал свой „роллс“ и сидел рядом с ним в инвалидной коляске, оглаживая его, словно втирал кольдкрем в его блестящую бархатную кожу». Чей бы это мог быть голос?
Работы было ещё невпроворот — множество записей предстояло очистить от помех. В такой хаотичной коллекции, собиравшейся так долго, задача атрибуции становилась почти невыполнимой. Там, где был записан внятный голос, говорящий внятные вещи, — голос, узнаваемый по тембру, — к примеру голос Карадока, это не составляло труда. Но как быть с постоянными занудными цитатами, а иногда даже с фоновыми шумами, этой неотъемлемой частью живой записи? Мои крохотные дактили работали довольно надёжно, записывая все, что слышали, но из-за несовершенной избирательности я часто не мог сориентироваться в хаосе звуков — невозможно было точно определить, кому принадлежат те или иные слова. И в то же время многие из записей были слишком хороши, чтобы их стирать. Коллекция была подобна некоему шальному аккумулятору, копящему энергию, чтобы питать музей мнемонов… Сокровище, вот что она была такое. В какой-то момент среди этих моих занятий, когда я совсем зарылся в гору белой бумаги, мне пришла идея, которая позже воплотилась в виде Авеля, компьютера. Тогда она была ещё в зародыше, хотя в течение последующих месяцев стала обретать более определённую форму. Сырой материал фонологии относительно прост, если сгруппировать его по алфавиту. Но если фонему в сильной позиции — так я по наивности считал — можно было бы перевести, по соответствующей таблице, в колебательное движение соответствующей силы… определить её частотную характеристику, бедняга Чарлок, тогда можно было бы и вычислить автора этого речевого балагана и придать хаосу научный порядок — не только хаосу, но и не поддающимся учёту данным? Все это было ещё ужасно неопределённо, предстояло многое узнать у Маршана об электронике. Может, пришлось бы дойти до того, чтобы ради истинного языкового портрета людей просто записывать тональность их каждодневной речи. Кто знает? Новый вид дешифровки человеческой особи по свойствам голосовых связок?
Читать дальше