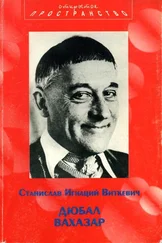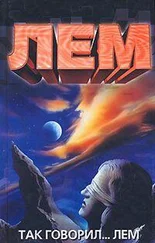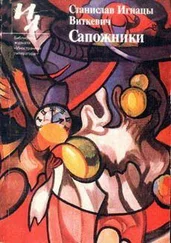— Никакой он не цезарь, а просто жалкий кондотьер. Случись что, он будет прислуживать самым отъявленным радикалам.
— Отец, я бы не советовал вам бросаться такими словами: придет время — их придется брать назад, если шкура дорога. Если бы Коцмолухович хотел помогать китайцам, он давно бы это сделал. Я подозреваю, что у него нет никакого позитивного плана. А я не собираюсь погибать ни за какую идею — жизнь сама по себе прекрасна.
— У вас, у молодого поколения, действительно богатая фантазия, потому что вы мусор. Если бы я мог так менять свои взгляды! Для этого мне пришлось бы научиться плевать в собственный пупок.
— Папина идейность и весь этот Синдикат национального спасения — ха, ха — национального в наше-то время! — только видимость. А все дело в том, что определенный пласт людей хотел бы наслаждаться жизнью, хотя давно потерял на это право. Я не обманываюсь. Вы прозреете с отрезанными ушами, собственными гениталиями в зубах, бензином в пузе и так далее... — Они перешли на шепот. Генезип прислушивался к этому разговору с нарастающим ужасом. В нем сидели два разных страха: перед княгиней и дебрями политики, они возносили его личностное самоощущение на головокружительные, незнакомые ему до сих пор высоты. Он ощущал свое ничтожество перед этим циничным юношей, всего-то на год или два старше его. Его охватила внезапная ненависть к отцу, который сделал из своего единственного сына такого губошлепа. Как «ОНА» могла считаться с ним, когда у нее самой — такой потомок! Он и не подозревал, что все как раз наоборот, что вся его ценность состоит в непроходимой глупости и наивности в сочетании с неплохими физическими данными.
Княгиня внимательно смотрела на него. Половой интуицией она угадала сцену в лесу — конечно, не где (лес) и с кем (Тенгер), а вообще. Что-то «такое» случилось с этим красивым подростком. А ей хотелось иметь его в сыром виде, свеженького, словно неприлично распускающийся бутон, как глупого, ничего не понимающего, испуганного щенка, как маленького эльфа, которого вначале можно приласкать, а потом, если тот, осмелев, покажет рога и когти, немного «помучить» (так она выражалась). Но будут ли у нее силы для этого «мучения»? Она не была садисткой, к тому же ей чересчур, пожалуй, нравился этот малый — возможно, это действительно будет страшный «последний раз». «К старости наши требования возрастают, а возможности уменьшаются», — так говорил ей когда-то муж, пытаясь деликатно объяснить ненасытной мегере, что не желает больше физической близости с ней. Тот разговор положил начало череде ее официальных любовников.
— ...хуже всего разнузданный психологизм, который полез в неподходящие для него области: психологическая социология — это ерунда, — говорил старый князь. — Если бы все последовательно изменили свои взгляды, человечество перестало бы существовать: не осталось бы ничего святого и ничего конкретного.
— Даже Синдикат национального спасения выражал бы фиктивное психическое состояние группы общественных ренегатов, — ядовито засмеялся Скампи. — Но если у кого-то, как у Коцмолуховича, есть мужество быть последовательным приверженцем психологизма, — а быть последовательным приверженцем психологизма значит быть солипсистом, папочка, — тогда даже на посту генерального квартирмейстера можно творить чудесные в своей чудовищности дела.
— Невозможно слушать то, что ты плетешь.
— Ах, папа, вы ископаемый динозавр! Вы не понимаете, что наконец-то пришла пора, в политике настал короткий период фантазии, и именно у нас. Разумеется, это лишь последние судороги перед абсолютным упокоением в желтизне — с помощью китайцев. Эти мерзавцы позволяют себе фантазировать только вне реальности, а в жизни являются машинами без страха и упрека. Мы же, противные лживые канальи, наоборот: мы внутренне опошлились так, что по контрасту с нашим простецким нутром самое святое — политика — стало выглядеть искаженно, как предметы на картинах польских кубистов, гиперреалистов и разных коекакистов. Я посижу здесь дня три, и если за это время мне не удастся сделать из вас, папа, политика нового типа, то предрекаю вам мучительную смерть — как знать, не при моем ли участии, соответственно моим принципам. Однако уже половина третьего — пора идти спать.
Он встал и с какой-то кошачьей нежностью, весьма не понравившейся Генезипу, поцеловал мать. Генезип вправду почувствовал, насколько стара эта баба — ведь это из нее много лет тому назад вылез этот шикарный юноша, немного старше его самого. Но уже в следующий момент именно это возбудило его интерес и уменьшило страх: открылась возможность взглянуть свысока на уготованную судьбой любовницу. Скампи продолжал говорить, слегка растягивая слова (есть ли хуже воспитанные люди, чем польские аристо- и псевдоаристократы?). — Я совсем позабыл об этом молодом человеке. Что он делает в столь поздний час в нашем семейном кругу? Но, должно быть, стесняться не стоит... Это новый мамин любовник? — Генезип встал, онемев от ярости: «Меня считают здесь ребенком?!» Виски у него раскалывались, из носа, казалось, вот-вот вырвется фиолетовое пламя — и к этому примешивалась огромная досада, что именно теперь, в такой момент... Он видел все со стороны, как бы вне необходимых форм существования бытия: времени и пространства, точнее, даже двух граней единой формы. Неисповедимая воля судьбы распоряжалась невыносимо прекрасной, чужой, завидной, недостижимой жизнью, контуры которой маячили в отдалении. В этот момент, как в детских снах птенчик из яичка — но здесь из человеческого, мужского, — проклюнулся гонор. Он шагнул, готовый драться. Княгиня схватила его за руку и усадила обратно в кресло. Его пронизал странный ток: он почувствовал себя так, словно сросся с ней в одно тело. И в этом было что-то сладострастно неприличное... он совсем потерял силы. Он уже не мог смотреть на жизнь со стороны. Маркиз ди Скампи глядел на него со снисходительной всезнающей улыбкой: ему знакомы были такие порывы, но у него не было для них времени; они не приносили дивидендов в его кошачьих, столь же тонких, сколь и б е с ц е л ь н ы х дипломатических интригах и к тому же слишком отбивали охоту к жизни. Лучше было делать умеренные свинства. Старый князь мыслями был уже за сотни миль отсюда, в столице. Он, видел Коцмолуховича — солипсиста (солитера, свернувшегося ужом в грязных складках дивана и шипящего как змея) в своем темно-зеленом кабинете, который он хорошо знал... Страшная это была картинка — все равно что во сне блуждать с горящей спичкой в пороховом погребе. Как тут быть, как тут быть! «Понадобится, так и я стану солипсистом», — подумал он, и эта мысль принесла ему облегчение.
Читать дальше