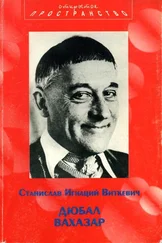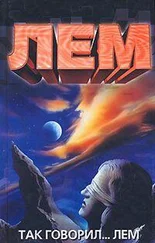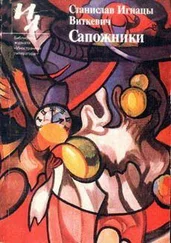— Я приду завтра после двенадцати. Мы будем говорить о Лилиане. Обо мне ни слова — при этом условии. Я всего лишь ничтожный кандидат в адъютанты генерального квартирмейстера. — (А этот-то с чего тут взялся? Коцмолухович на миг перестал быть для него конной статуей Вождя на площади, словно из прошлого, а стал живым человеком, у которого есть живот, кишки, гениталии, полно всяких пакостных желаньиц, — впервые материализовался в чисто-мелко-житейских, не квартирмейстерских измерениях.) — К р о в а в а я т е н ь п р о м е л ь к н у л а н а л и ц е П е р с и — не румянец, а кровавая тень. Зипке ни в голову, ни в мошонку не приходило, что именно Коцмолухович может оказаться его соперником. Вообще это была единственная настоящая тайна квартирмейстера, кроме его «идеи» (idée fixe [154] Навязчивой идеи [идеи фикс] (фр.).
, а в данном случае — «Fide X» [155] Веры Икс [фидеи Икс] (псевдофр.).
), тайна, о которой знали всего несколько человек, надежных, как сам принцип противоречия. Об идее-то вообще никто не знал, даже сам ее обладатель. А вот Перси была для Вождя — та самая «ОНА» — единственная, которая и так далее.
Информация
Коцмолухович сам не хотел, чтоб она жила в столице. Обычно они встречались с эротическими целями раз в месяц, тогда, когда она и т. д., т. е. когда у нее был четырехдневный отпуск в театре. И вот каковы были эти гнусные, беззаботные, диавольски-навыворотные забавы квартирмейстера: поедание, то бишь копрофагия, битье конской плетью по голизне — то бишь флагелляция, невероятно упоительное предание себя во власть женщине (причем именно невинной девочке), что усиливало ее очарование до головокружительных высот, — аутопростернация. Рык яростной бестии в лиловых коготках осексуаленной жестокости, прозрачной, будто крохотная мушка. Это было сумасшествие — все равно что пить из стакана кипящую лаву мелкими, малюсенькими глоточками. Таково было единственное утоление и разрядка для той страшной пружины в руке Бога, какой был проклятый Коцмолух. Этим он удерживал в себе дикую, «istinno russkuju biezzabotnost’», которой надивиться не могли военные представители давно уже не существующих режимов и народов. Увы, филиал театра Квинтофрона был бы невозможен в столице, где все же больше чувствовалось давление коммунистической (в зародыше) туманности. [Любопытно, что коммунисты всего мира боролись с этой туманной «jaczejkoj» (паутинкой, полной яичек). Однако что-то там пухло, а иногда даже болело, хоть и слабо.] Может, оно и лучше было, с личной точки зрения (дабы «семенные силы употреблялись на лучшие цели», как говорит де Мангро в «Нетоте» Мицинского; «редко, но метко» — таков был принцип квартирмейстера — «серые клетки не восстанавливаются»), но там, в столице, общий дефицит индивидуальных выходок был явно меньше. Больше жизненной фантастики как таковой проникало в саму Пресвятую Политику. А об этом театре и так слишком много болтали в кругу полковника Нехида, бородатого мстителя за вечно алчущих представителей низов. А впрочем, если бы ОНА все время была с НИМ, то ж, сударь, жизнь бы превратилась в бесконечный кошмар, страдала бы жена — Ида, и дочурка — Илеанка. А он их всех трех любил, и все три нужны ему были в качестве подпорок для его ужасной фабрики сил, для борьбы, а точнее — единоборства с неведомой собственной судьбой и олицетворенным в ней предназначением всей страны. «Все три знакомы мне, как старые, ах, суки, или как ты, ma belle [156] Моя прекрасная (фр.).
Сузуки», — красивым баритоном пел квартирмейстер в минуты радости. Четвертой была — идеальная и неведомая: или, как он иначе называл ее — княгиня Турн унд Таксис. «Gefährlich ist zu trennen die Theorie und Praxis, doch schwer ist auch zu finden Prinzessin von Thurn und auch zu Taxis» [157] «Весьма опасно разделять теорию und Praxis [и практику], еще труднее отыскать княгиню Турн унд Таксис» (нем.).
, — пел он в штабной компании Буксенгейна и ржал от неудержимого веселья. Несмотря ни на что, всем казалось ясным, что только он должен наконец хоть что-то знать, а иначе-то как, сударь, того-с, что бишь я хотел сказать, — и дальше ничего, только выпученные глаза, какие бывают у людей, пьющих горячий чай на станции, когда поезд вот-вот должен тронуться. И это, именно это, было неправдой. Но если бы все вдруг узнали, как обстоит дело, вся страна за секунду превратилась бы в лужу жидкой гнили, как мистер Вальдемар из новеллы Эдгара По.
Второй, третий акт еще худшего «biezobrazja» — и изувеченный, изничтоженный до донышка раскаленного духовного нутра Генезип потащился с семьей на ужин в первоклассную кормильню «Ripaille» [158] «Кутеж» (фр.).
. Уходя, Перси сказала, что, м о ж е т б ы т ь, придет. В этом «может быть» уже был задаток всех «тортюр». Почему «может быть», почему не наверняка — песья кость ей в рыло. И отчего никогда не бывает так, как должно быть! Все до того опошлилось, что ни на что просто невозможно было смотреть: официанты, водочки, закусочки, радость Лилианы, полувеселая-полустрадальческая улыбка матери и бурная радость Михальского. Вдобавок княгиня приволокла своих кавалеров из высших сфер — они смотрели сквозь Генезипа, как сквозь дырку от сыра, и глушили натощак szampanskoje. Невыносимая «скорбь о безвозвратно уходящей жизни», как в вальсике Тенгера, опрокинула Генезипа (морально) лицом к земле, заставив отвратно, по-скотски разрыдаться. Он начал пить, и на миг скорбь стала прекрасна, и все показалось таким, как должно быть, — как пятна в идеальной живописной композиции. Но грубеющая лапа алкоголя тут же гармонию задавила. Затопленный водкой громила спросонья затрепыхался на дне и налитыми кровью глазами обвел зал. Жизнь потонула в хмуром безмыслии. Еще мгновение, еще — а потом хоть пятнадцать лет каторги. Казалось, земноводный глазок гнусной финансовой аферы хитро, в с е м з а л о м подмаргивает звездной послегрозовой ночи. Все новых жертв душила в своих грязных объятиях коллективная бизнес-свинья, новая около-социальная сверхличность, игнорируя индивидуальные страдания своих элементов. Свинье было хорошо — она жировала в бурлящей грязи, пожирая паскудно дорогие яства вперемешку с драгоценными тканями, каменьями и сладострастием. Мягкие стоны скрипок хватали за нерасчленимый клубок неосознанной высшей метафизики и скотской жажды побольше урвать от жизни, волочили по полированному паркету грязные, драные потроха. Вычерчивали головокружительные зигзаги разнузданные лоснящиеся икры и туфельки, мерзко-элегантные мужские башмачища и портки. Свинья жрала. Вот как было тогда на «передовом бастионе», хотя уже лишь в немногих первоклассных заведениях. На Западе такого теперь вообще не водилось. Там национальные чувства и религия были давно использованы в качестве компромиссных временных приводных ремней фашистской машины, с полным пониманием того, насколько эвристичны эти угасающие сущности, а здесь, на «бастионе», это была только маска предсмертного обжорства Великой Свиньи — под таким прикрытием она могла трескать до последних судорог своей похабной агонии, чтобы издохнуть с недожеванным огрызком в хрюсле. Взять от жизни все — хорошо бы, но все зависит от того, кто берет и как. В ту эпоху это даже могло еще иметь творческий характер — (конечно, у отдельных исключительных личностей) — но все это были остатки. Брр, бррр — хватит, хватит! Казалось, нет силы, способной вытянуть такую жизнь из маразма. Казалось, о нескольких кельнеров и поклонников жизни как таковой разобьется и сама китайская стена.
Читать дальше