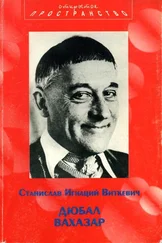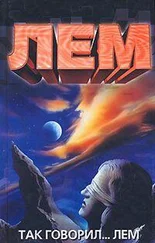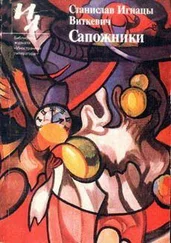Если б Генезип мог «видеть» эти мысли, это было бы для него катастрофой, моральным коллапсом. Ему приходилось в ком-то искать опору. Сам он был слишком слаб, чтобы взять вес собственной сложности, — «каркас» не выдерживал беспорядочных рывков чрезмерно мощного и неотрегулированного мотора. Если б не Коцмолухович, впрыснувший ему свой «яд жизни», чем был бы он перед такими величинами, как княгиня, Синдикат, мать, даже Михальский. Все это уже проявилось. Только теперь он понял, скольким обязан Вождю. «Что дал мне мой отец? Жизнь дал случайно — ты веру мне вернул в вершины духа», — вспомнилось ему, что сказал Иоанн Цимиш Никефору в «Базилиссе» Мицинского. Это было преувеличением, поскольку до сих пор именно отец подталкивал его своей волей, даже из-за гроба. Только теперь он отдал его в руки не слишком близкого при жизни друга. Зипек не предчувствовал, что его ждет — не понимал — то, что он видит сейчас, это последние отблески нормальной жизни: мать, не сводящая глаз с Михальского, отварная телятина под бешамелью, фиакр, дождливый вечер — (еще когда он возвращался из училища, с запада двинулись черные тучи). Никогда уже не придется ему использовать предметы мира сего в их обычных связях и отношениях, и что хуже всего, он осознает отличие новой среды от прежней. Будь у него время, он бы прежде времени до смерти себя этим замучил.
Первая весенняя гроза бушевала над городом, когда они втроем ехали на дрожках в Хаизово Предместье, где буйствовал квинтофронов «Храм Сатаны». По крайней мере, так называли этот балаган члены Синдиката Спасения. [А Коцмолухович беспечный, как пес, спущенный с цепи, в это время под звуки гимна Кароля Шимановского «Боже, спаси Отчизну» въезжал на коцмыжевский вокзал.] Откуда-то из-за города, с далеких полей ветер приносил весенний запах ненавистной «родной земли» и свежей травы, пьющей жадными ростками углекислый газ. Упоительная внутренняя бесшабашность залила Генезипа до крайних рубежей духа. Он тонул в трясине фальшивого примирения с собой. Целовал невероятно красивую руку матери, бесстыдно стащив с нее перчатку, и (неизвестно зачем) поцеловал в лоб пораженного Михальского, который, вследствие подавленности абсолютным счастьем, в основном молчал. (Он боялся при своей «графине» — так он ее, к ее возмущению, называл — ляпнуть что-нибудь неуместное. Другое дело в койке — там, имея все козыри на руках, кооператор был гораздо уверенней в себе.)
Замечание
«Что интересного можно сказать о человеке счастливом, живущем без проблем, о человеке, которому все в жизни удается? Он всем опротивел — и в жизни, и в литературе. Глумиться над «nieudacznikami», которые потом — «pust’ płaczut» — вот благодарное занятие для литературщика. А если уж сильный человек, то как у Лондона: обязан полтора суток безнаказанно ползти нагишом при -35 °С, голыми руками в три дня без отдыха разломать шестисотметровую скалу, остановить трехвинтовой океанский пакетбот, уперев ему ногу в нос, а потом — «keep smiling» [140] «Улыбайтесь» (англ.).
. Легкая задача — штамповать таких несложных героев». — Так говорил Стурфан Абноль, который в эту минуту пытался насмерть зацеловать Лилиану во втором экипаже.
Последний раз... О кабы знать об этом в подобных случаях... Зипа распирало от низменного счастья. Гнусный паразит, проникший в «кладезь сил» Вождя, упивался краденой высшей ценностью — ощущением смысла Существования. Казалось, общая гармония Бытия не умещается в самой себе — мир лопался от совершенства. В такие минуты или в моменты столь же напряженного отчаяния простые люди создают потусторонние миры, давая выход невыносимому давлению негативной или позитивной гармонии.
Уже у входа их встречали обычные — механические, фотомонтажные, выблеванные из напрочь перекисшего творческого вакуума, пуристически-инфантильно-советско-старопикассовские, чистоблефистские — «biezobrazija» и лампионы в форме торчащих отовсюду скайскрейперов и замаскированных (черными масками), фантастически деформированных частей тела. Последнее было новинкой. Зипек впервые видел подобное свинство и замер от ужаса. Он знал такое по репродукциям в старых историях искусств, но не предполагал, что это столь омерзительно в своей безнадежной дегенеративности. И все же в этом было нечто = отчаянный блеф, доведенный до эксгибиционистского бесстыдства. «Бедная, несчастная Лилиана, милая моя потаскушка! Как ужасно приходится жить — я: псевдоофицер (в крови-то ведь у меня этого нет?) — она: псевдоартистка и духовная шлюха». Счастье угасло: он остался нагой под холодным мутным дождем, на каких-то задворках, провонявших стиркой и капустой, — здесь предстояло ему окончить жизнь. Ему вспомнилась русская песня, которую он знал по училищу, с припевом, кончавшимся словами: «oficerow i bliadiej...»
Читать дальше