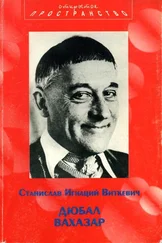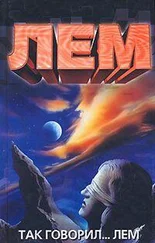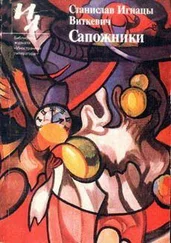«Вся страна — точно карта, а цель адски, мучительно, а б с о л ю т н о неизвестна. Слишком этого мало, слишком мало — стиснуть бы весь мир в объятиях, перетворить его и перетва́рить, и отбросить — сомлевший от наслаждения (что именно он его стиснул), как он отбрасывал Ту, которая... Стоп. Ха — знали бы они, что он загадка даже для себя, вот бы посмеялись. Хотя теперь-то, если б хорошенько покопались, то, может, как-то под-под-подсознательно и догадались бы. Он уже «парил» над своей «бездонной приватной дырой» («приветной» — как говорил один мужик, очень, кстати, умный, — есть ли слово ужасней?). Не смотреть туда, в эту пропасть («настоящую, разрази ее гром, а не дурацкую, придуманную каким-нибудь еврейчиком или мистиком из кафешки» — собственные слова Его Единственности) — там безумие, а перед тем, может, еще и смерть на трезвую голову от собственной руки — по причине ненасытимости. Чего ж ему еще-то было надо, ему, чей личностный потенциал был максимально воплощен? Ему требовалась Актуальная Бесконечность в жизни — а такого, увы, не бывает. Работа, работа, работа — спасает только это. Не дать отравить себя залежами нерастраченных сил. А Бехметьев все советовал немного отдохнуть. «Жизнь — только то, чем до упаду насладился и измучился», — весело отвечал ему Квартирмейстер, беспощадный к исполнителям своей воли, как Наполеон. Знаменитый спаситель душ, брошенных на край пропасти прижизненных мучений, и опекун душ, уже осужденных, говаривал о нем: «Erazm Wojcechowicz nie imiejet daże wriemieni, cztob s uma sojti. No eto, dołżno byt’, konczitsa kakim-nibud’ wzrywom». Одно было ясно: ни нация, ни общество как таковые его не интересуют: то есть скопление ч у в с т в у ю щ и х с у щ е с т в не интересовало его абсолютно. Состояния массовой психики не вызывали в нем резонанса. «Изнутри» он чувствовал нескольких человек: 1) дочь; 2) жену; 3) «эту обезьяну» (как говорила генеральша о НЕЙ), ну и 4) сучку Бобчу. Остальные были цифирью. Но этих «остальных» он видел как никто — холодно расчленяя их, как на вскрытии: от ближайших поклонников до последнего солдата, которого всегда умел поддеть за самый пупок. И скорее он разлетелся бы на мелкие кусочки, чем сам себя проанализировал до такой степени, чтобы понять, есть ли у него какие-то национальные чувства или социальные инстинкты. Судьба его швырнула на вершину пирамиды, и он должен был выстоять там до конца. Но судьбе он сам достойно помогал. Вот и теперь — заварить кашу, а потом эту кашу максимально собой приправить, чтоб весь мир о нем говорил, — но не так, как нынче. Ему было мало, что какие-то там занюханные заграничные газетенки изредка по мелочи что-нибудь о нем вякнут. (Вообще нас тогда публично замалчивали, втайне используя как буфер — «бутафорский буфер бухой, разбухшей и тупой, как бутсы, буйной буффонады» — как говорил он сам. Что-то там было еще о буфете — вроде того, что Россия и Польша для монголов — буфет с закусками, прежде чем они пожрут весь мир. В свободные минуты «Великий Коцмолух» любил такие слова».) Да, сегодня это единственная форма творчества — по собственной прихоти разворошить человеческий муравейник (хотя бы ту же Польшу), нарушив заклепанную, как обруч на шее, организацию масс и систему внешнего давления. Но это было, скорее, интеллектуальное новообразование — ибо в крови у квартирмейстера не было воли к власти, разлитой по всему телу. Она сидела в какой-то гипертрофированной мозговой железе — торчала отдельно, зато крепко».
— «Опять-таки план» — от и до е г о концепция: план великой битвы с китайцами, состоящий в том, чтобы придать фронту такую конфигурацию, которая уже в начале боя вынудит противника к той, а не иной «pieriegruppirowkie» (излюбленное выражение Вождя), причем китайский штаб должен быть о некоторых вещах правдиво и достоверно информирован. В общем, квартирмейстер был прирожденным кондотьером — в этом суть, — но притом стратегом-художником. Это было существенное творчество, которое он как «государственный муж» игнорировал. Общественная деятельность составляла только фон великих боевых концепций — но в глубине души он считал себя великим пророком всего человечества — пророком без идеи. А может, что-то там и было — в его «приватной бездне», — но об этом позднее. Он сам не знал, что там сидит, да и знать в эту минуту не желал. План созревал в сатанинском воображении Великого Коцмолуха без помощи каких-либо бумажек — одна только голая, без всяких рисуночков от руки карта и память, как один колоссальный штабной стол с миллионом ящичков и сетью электрических проводов, связавших систему сигнальных лампочек. Центральную кнопку этого чудовищного аппарата квартирмейстер «приватно» поместил между бровями, чуть слева, где у него был особый, неровный нарост — «македонская шишка», как он называл его при НЕЙ. Казалось, эта шишка торчит отдельно (субъективно, конечно) от хамских пластов души (а также от стальных плеч и бедер), которыми тоже не стоило пренебрегать — в иные минуты это был отличный резерв». «Ха, конные стрелки в Грудзёндзе — штука ненадежная. Инспекция может сорваться из-за этого чертова Вольфрама — а убрать его нельзя. Он видит насквозь — конечно, ему только кажется, но этого достаточно. А хуже всего то, что он тоже «кавалерийский бог». Не трогать — абсорбируется само или взорвется и... «czik» — прищучить в подходящий момент. В случае взрыва там уж Зудогольский как-нибудь разберется. Заранее нельзя «принимать меры» слишком жесткие, а потом... Ха — К, И и В — раз, два, три. Циферблатович убежден, что надо тайно идти на сближение с Синдикатом, — недооценивает мою силу. Пускай — этим мы его потом и обезвредим. Нехай действует по своему разумению». Он ощутил презрение к врагам, вынуждавшим его идти на недостойные трюки. «Дать ему свободу — и он перевесит там, где надо. Боредер — энигматическая восточная образина — чуть ли не единственная преграда: почти такой же загадочный, как он сам, хотя в целом не столь интересен. Лоснящаяся черная борода, в которой скрыты все его тайны. Ею-то он, шельма, и маскируется — а если его связать да и побрить? Гениальная идея: он же потеряет половину своей силы. И эта желтая рука в перстнях с дешевыми красными полудрагоценными камешками (шпинели?) (тоже мне!), когда он гладит свою бороду, как верного пса. И это имечко — Яцек — конгломерат систематизированных противоречий. «Побрею гада!» — громко крикнул Вождь. «С этими штафирками хуже всего. Кого-то он ко мне внедрил. Но кого?» — Коцмолухович всмотрелся в красный шелк подушки так интенсивно, что в глазах потемнело. Потекли едкие слезы, и откуда-то выплыло каменно-добродушное лицо Угриновича...
Читать дальше