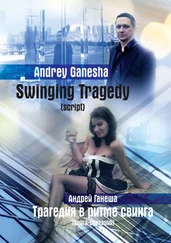Я поблагодарила ее за папку и посидела, глядя на обложку, не открывая ее у себя на коленях.
— А каково вам, — спросила Мириам, настороженно моргая за стеклами очков, — насчет отца? Годовщина во вторник, верно?
Это было до того необычайно — получить личный вопрос за обедом с моей матерью, не говоря уже о том, что вспомнили важную для меня дату, — что я поначалу не поняла, мне ли он задан. Мать тоже вроде бы встревожилась. Нам обеим было больно от напоминания, что в последний раз вообще-то мы виделись на похоронах, целый год назад. Причудливый день: гроб встретился с пламенем, я села рядом с детьми моего отца — теперь уже взрослыми, за тридцать и за сорок — и переживала повтор того единственного раза, когда с ними познакомилась: дочь рыдала, сын откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, скептичен к самой смерти. И я, не способная плакать, снова поняла, что оба они — гораздо более убедительные дети моего отца, чем я была когда бы то ни было. Все же у нас в семье мы никогда не желали допускать такой маловероятности, мы вечно отмахивались от того, что считали банальным и похотливым любопытством посторонних: «Но разве она не вырастет запутавшейся?», «Как она будет выбирать между вашими культурами?» — до той степени, что мне иногда казалось, будто весь смысл моего детства сводился к тому, чтобы показать менее просвещенным: нет, я не запуталась, и с выбором у меня никаких хлопот нет. «В жизни можно запутаться!» — так надменно обычно парировала мать. Но нет ли здесь к тому же некоего глубинного ожидания одинаковости между родителем и ребенком? Думаю, и для матери, и для отца я была странна — подменыш, не принадлежащий ни тому, ни другому, — и, хотя это, конечно, применимо ко всем детям, в конце-то концов: мы не наши родители, а они не мы, — дети моего отца пришли бы к этому знанию с определенной медлительностью, за годы, вероятно — только постигали его в этот самый миг, когда языки пламени пожирали сосновые доски, я же с этим знанием родилась, я всегда это знала, эта истина у меня на лбу написана. Но все это было моей личной драмой: потом, на поминках, я ощутила, что все время творилось и нечто крупнее моей утраты, да, когда б ни зашла в этот крематорий, я слышала обволакивающее жужжанье, Эйми, Эйми, Эйми, громче имени моего отца и чаще — люди пытались вычислить, действительно ли она здесь, а потом, позднее — когда они решили, что она, должно быть, уже отметилась и ушла, — услышать его можно было опять, скорбным эхо, Эйми, Эйми, Эйми… Я даже подслушала, как моя сестра спросила у моего брата, видел ли он ее. Она была там все время, пряталась у всех на виду. Неброская женщина удивительно маленького роста, без макияжа, такая бледная, что чуть ли не прозрачная, в чопорном твидовом костюме, вверх по ногам у нее бежали синие прожилки, волосы — свои, прямые, каштановые.
— Думаю, я цветы возложу, — сказала я, туманно показывая куда-то за реку, к Северному Лондону. — Спасибо, что спросила.
— Один день отгула! — сказала мать, снова разворачиваясь, подсаживаясь в поезд беседы на предыдущей станции. — В день похорон. Один день!
— Мам, я просила только один день.
Мать натянула на лицо вид материнской ранимости.
— Ты же раньше была так близка со своим отцом. Я знаю, что всегда сама тебя к этому подталкивала. Я правда не понимаю, что произошло.
Какой-то миг мне хотелось ей сказать. Но я лишь смотрела, как по Темзе пыхтит прогулочное суденышко. Среди рядов пустых сидений были разбросаны редкие точки людей, они глядели на серую воду. Я вернулась к своей электронной переписке.
— Бедные эти мальчики, — услышала я голос матери, а когда оторвалась от телефона — увидела, что она сидит и кивает мосту Хангерфорд, пока лодочка проходит под ним. У меня в уме немедленно всплыл тот же образ, какой, знала я, и ей пришел в голову: два молодых человека, сброшенные за перила, в воду. Один выжил, один умер. Я поежилась и потуже запахнула кардиган на груди. — И девочка там еще была, — добавила мать, высыпая четвертый пакетик сахара в пенный капучино. — По-моему, ей еще и шестнадцати не исполнилось. Практически дети, все они. Какая трагедия. Должно быть, они по-прежнему в тюрьме.
— Ну конечно , они еще в тюрьме — они убили человека. — Из фарфоровой вазочки я вытянула хлебную палочку разломила ее на четвертинки. — А он по-прежнему мертв. Тоже трагедия.
— Это я понимаю, — огрызнулась мать. — Когда слушалось то дело, я каждый день в зале сидела, если ты помнишь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу