Вы уж простите меня, господа, если я говорю о вещах, для вас непонятных, о странных, о незнакомых вещах. Где у ваших женщин честь в наши дни? И знают ли они хотя бы слово такое?
Я ни слова не говорил ей в утешение, да и ни одно слово на свете не могло вы утешить меня самого, и потому Пеллегрина в ту неделю легко терпела мое присутствие.
Она горевала по своем могуществе, по восторгам дворов, поклонению принцев, как оскверненная девственница горевала бы по венчальной короне, по балам и пирам свадевных торжеств. Но при мысли о своей галерке она проливала те слезы, какими невеста оплакивала вы молодого своего жениха. Как, как снесут они эту утрату? Как станут они жить дальше день за днем, измучась тяжкой работой за ничтожную плату, под гнетом хозяев, и никогда, никогда не разверзнутся для них небеса, и Мадонна не улыбнется им с облаков? Упала их звезда — и они остались одни в темноте — люди галерки, смеявшиеся и плакавшие вместе со своей Пеллегриной.
За эту неделю я понял, как могут отличаться протяженностью одни сутки от других, один месяц от другого. В нашем доме время всегда летело легко, как майские ветры, как бабочки, как летают летние ливни в сопровождении радуг. Теперь день был длиною в год; ночь — длиною в десятилетие.
После этой первой недели Пеллегрина попросила меня дать ей сильного яду, чтобы раз и навсегда положить конец времени. С юности я носил с собою такой яд, на случай, если жизнь окажется невыносимой. Я жил тогда в Милане, и всякий день я к ней ездил. Я передал ей яд в полдень в среду, и она просила меня вернуться в четверг к вечеру. Когда я приехал, я застал ее в мученьях. Она рассказала, что приняла весь опиум, который я ей оставил, но он не подействовал, ей не удалось умереть. Я знаю, она сама в это верила, но знаю и то, что это неправда. Оставленная мною доза убила вы всякого. Верно, она приняла достаточно, чтобы ей стало плохо, быть может, она потеряла сознание и решила потом, что приняла все. Впрочем, какая разница? Правда та, что ей, как сама она сказала, не удалось умереть. Да что там говорить? В ней было слишком много жизни.
Потом уж я думал, что, если бы я тогда покончил с собой, она, быть может, нашла бы в себе силы за мною последовать. Из того, что она время от времени мне говорила, я заключаю, что она всегда страшилась смерти, столь чуждой и противной ее натуре, и для нее было утешением думать, что я, гораздо ее старше и слабого здоровья, умру, верно, раньше, и приготовлю ей путь, и встречу ее на том свете, если тот свет существует. Потому-то отчасти она и предпочитала меня молодым и сильным. Но тогда эта мысль не приходила мне в голову.
Мои порошки меж тем оказали свое действие: со смертью было покончено. Смертельно усталая, она как бы восстала из мертвых. В тот вечер она впервые пожелала со мной говорить.
И я рассказал ей, как прошедшей ночью, после долгих моих бессонных часов, перед самым рассветом, когда выпадает роса, у меня под окном стал надсаживаться соловей, будто наверстывая упущенное время, и как, слушая его, я задумал балет, имевший своею темой то, что выпало нам на долю. Пеллегрина внимательно слушала и на другой день сама навела разговор на мой балет и расспрашивала меня о музыке и либретто. Я рассказал, что хочу назвать его «Филомела», и объяснял ей ход действия и последовательность танцев. Пока я говорил, она взяла меня за руку и сплела свои пальцы с моими. Впервые после своего несчастья прикасалась она к человеческому существу.
Дня через два она послала за мной рано утром, до восхода. С удивлением нашел я ее в колоннаде перед домом в утреннем неглиже.
Было прелестное утро. Трава и цветы насыщали сладостью синий темный воздух. Она выглядела так, как до несчастья. Ее лицо цветком белело в сумраке утра. Но заговорила она со мной очень тихо, будто воялась кого-то разбудить.
— Я послала за тобой пораньше, Марк, — сказала она, — чтобы нам можно было день целый говорить, если захочется.
Она взяла меня под руку и стала водить взад-вперед. Дойдя до конца колоннады, она остановилась и, прежде чем повернуть, оглядела вид. Было свежо.
— Мне так много нужно тебе сказать, — проговорила она, но не стала продолжать. Только когда мы вернулись на то же место, она повторила: — Мне так много нужно тебе сказать.
Наконец мы уселись на скамейку. Она не выпускала мою руку, и мы сидели бок о бок, как в карете.
— Ты думаешь, Марк, — сказала она, — что я ни о чем не думала все эти дни, но ты ошибаешься. Только все эти мои мелкие соображения так трудно передать. Они идут от таких давних впечатлений. Но ты потерпи, Марк, у нас целый день впереди.
Читать дальше





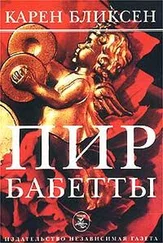

![Росс Монтгомери - Ужин начинается в полночь. Семь жутких историй [litres]](/books/430951/ross-montgomeri-uzhin-nachinaetsya-v-polnoch-sem-zhu-thumb.webp)




