Ну, так вот дело и шло. Вторая зима настала. Московиты бояре снова прислали грамоту и слова в ней к смольнянам, дабы тем прекратить ослиное упорство и впустить гарнизон наш. И ежели, де, не преклоните вы, смольняне, вый своих, то не дождаться вам помощи от Москвы. Град сей был оставлен всеми. И сам стал как будто государством. А правитель в нем — воевода Михаил Борисович Шеин. Мне довелось видеть его издалека, когда он сходился на брегу Борисфена ради переговоров с канцлером Львом Сапегой. Но хорошо еще не удалось разглядеть. Вроде ничего уж необыкновенного, невысок, ниже гетмана ростом, смуглый или от дыма закопченный, с черной бородой небольшой, как у шведских шкиперов, весьма широк в плечах. А у Сапеги-канцлера — усы ровно в молоке или снегом запорошены, белейшие. Ну и был у них переговор — между черной бородой да белыми усами. Без толку. Да и молод он, сей боярин, был…
На ту грамоту митрополит Филарет, который все в лагере нашем жил послом, отвечал, что, де, не патриархом она писана. Москва тогда прислала… этого… коварного Салтыкова уговаривать смольнян. Не вышло. Тогда этот Салтыков предложил его величеству королю возглавить отряд смоленских дворян, что вышли из-под Клушина и здесь пребывали. Вызвался вести сей отряд на уезды, из которых дворяне направлялись в ополчение этого именитого князя Пожарского. Дабы прибить их и имения разорить. Король великодушно дозволил и Салтыкова пожаловал боярином. А как сей отряд удалился от града, Салтыков, новый боярин-то, перебил польских людей при отряде, а королю дерзкое послание направил, де, уходите, ваше величество, а не то будем пустошить твое королевство, как ты наше. Коварство и измена живут в сердцах сего медвежьего народа. Попробуй честно с ними торговаться, не получится, так и норовят всучить какую гадость, куницу — за соболя, скверную пшеницу — за крупчатку, патоку — за мед. Иноземца за человека не почитают. Хотя поначалу и покажется: лебезят. Нет, не верь им, Николаус! Говорят, кабы в тебе, добрый пан шляхтич, была русская душа, то и вправду был бы ты добрым и настоящим человеком. А когда так, ежели не истинный ты для них человек, то ведь можно и даже просто необходимо надуть тебя, обвести вокруг пальца. Он писать свое имя на бересте не может. Бумаги не знает, — все мы ему кипы шлем на ихние летописи. Книги все рукописные. Наш Федоров к тирану Лютому Иоанну явился, книгопечатню завел, так пожгли ее попы. Книгу-де от руки надобно писать, макая перо гуся в чернила из ихней желчи и слюны ехидниной. Так он и сбежал снова в наши пределы.
Нечесаный, с кудлатой бородой, в двух шубах собачьих, в трех шапках кошачьих, с брюхом от снов своих ежедневных — московит после обеда завсегда спит, хоть гром греми, пушки бей, ровно татарин, который в означенный пророком своим момент дня, утра, вечера должен пасть на колени и бить челом. Так и московит — бьет челом его величеству сну. Пыхтит брюхом вверх. Дикий и грязный народ! Уж не обессудь, Елена. Ты-то уже по всему пани. Ну а сыны и подавно, ибо польская кровь чище, сильнее. Как говорил один умный человек, а именно ксендз, что сейчас служит здесь в храме за Борисфеном: у московитов солнце встает, грязное от испарений, такова у них и кровь, тяжелая и дурная, а у нас солнце на западе, проделало путь и очистилось в сферах небесных, — такая же у поляков и кровь, отстоявшаяся, будто вино, мудрая, с золотым отливом.
Московит свою женку умеет прибить, и той это любо. Один немец, портной, взял в жены московитку, хорошо жили, но та и начала вздыхать. Что не так? А, говорит, все так, только не любишь, видать, ты меня, горемычную, Ганс Иванович, не любишь. Это с чего ж ты взяла? Ну как, отвечает, вон у других — прибьет он ее слегка, потом и приголубит. Сердечная связь. Так он ее и принялся мутузить: сперва оплеуху с утра, потом две на сон грядущий, а там и сильнее и чаще, пока ребра от такой-то любови московитской не переломал да зубы не повыбивал.
Ну, в нашем дому другие порядки!..
…И вот как с ними договориться мы могли, паны мои радные? И не только нас, но и своих же московитов с грамотами Боярской думы не хотели слушать. Те снова прислали таковую: де, впустить вам, смольнянам, в град сто пятьдесят литовских человек вооруженных и бить челом и крест целовать великому государю нашему, царю и великому князю Владиславу Жигимундовичу.
Не отвечают смоленские медведи. Королевский совет им предложил, медведям-то, людские достойные условия: ежели пустят в град триста пятьдесят жолнеров и дадут в заклад тридцать своих медведей от всякого звания, ну медведей дворян, медведей крестьян, медведей посадских, ключи от ворот уступят, плату его величеству за понесенные убытки осады дадут, то никого мы не тронем и не уведем в коронные земли. А те отвечали-то на свой манер: не триста пятьдесят человек, а двести, ключи остаются у воеводы, вместо выплат убытков военных — подарки, и то все это станет возможно лишь после ухода всей королевской рати в Речь Посполитую. Насмешка да рык!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
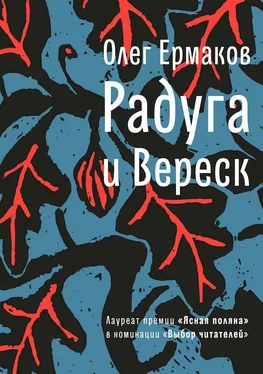







![Олег Верещагин - Красный вереск [За други своя!]](/books/283226/oleg-verechagin-krasnyj-veresk-za-drugi-svoya-thumb.webp)


