Вся округа, как дно огромного аквариума, заполненного бледными чернилами. Деревья, люди и дома сливаются в черные силуэты и колышутся подводными растениями на фоне чернильного этого омута.
Вокруг Санатории невероятное количество черных собак. Разной величины и вида они в сумерках бегают понизу по всем дорогам и тропинкам, поглощенные своими собачьими делами, тихие, напряженные и сторожкие.
По две, по три проносятся они с вытянутыми настороженными шеями, чутко поставив уши, с жалобным звуком тихого скуления, которое непроизвольно рвется у них из гортаней, доказывая крайнее возбуждение. Поглощенные своими делами, торопливые, всегда в движении, всегда увлеченные неведомой целью — они мало обращают внимание на прохожего, разве что зыркнут на бегу, и тогда в косом этом взгляде, черном и умном, угадывается ярость, сдерживаемая в своих намерениях единственно нехваткой времени. Иногда же, давая выход злости, они, опустив голову, с не сулящим ничего хорошего рычанием подбегают к ноге, затем лишь, чтоб на полпути переменить намерения и умчаться дальше огромными собачьими прыжками.
С собачьей этой напастью ничего нельзя поделать, но почему же, черт побери, администрация Санатории держит на цепи огромную немецкую овчарку, наводящего ужас зверя, настоящего вурдалака просто-таки демонической дикости?
Мурашки бегут по спине всякий раз, когда иду мимо будки, перед которой замер пес, обездвиженный короткой цепью, с жутко ощетиненным вокруг головы кудлатым воротником, с машинерией могучей пасти, полной клыков, усатый, взъерошенный и бородатый. Он совсем не лает, лишь дикая морда его при виде человека делается еще страшнее, он весь деревенеет от безмерного бешенства и, медленно поднимая страшную морду, в тихой конвульсии заходится совсем низким, яростным, из глубин ненависти добытым вытьем, в котором слышна жалоба и отчаяние бессилия.
Отец, когда мы вместе уходим из Санатории, минует бестию равнодушно. Что до меня, то всякий раз я до глубины души потрясен этой стихийной манифестацией бессильной ненависти. Я теперь на две головы выше отца, который, маленький и худой, семенит рядом мелкими старческими шажками.
Ближе к площади мы замечаем необычайное оживление. Толпы людей бегут по улице. Нас достигают невероятные слухи о вторжении в город неприятельских войск.
В атмосфере всеобщей растерянности люди сообщают друг другу тревожные и противоречивые новости. Это трудно понять. Война, которой не предшествовала дипломатическая деятельность? Война в обстановке блаженного покоя, ненарушаемого никаким конфликтом? Война с кем и за что? Нам сообщают, что нападение неприятельских войск активизировало в городе партию недовольных, и те с оружием в руках вышли на улицы, терроризируя мирных жителей. Мы и в самом деле видим группу этих заговорщиков, в черных цивильных костюмах, с перекрещенными на груди белыми ремнями, молча шествующих с винтовками наперевес. Толпа отступает перед ними, теснится на тротуарах, а они идут, бросая из-под цилиндров иронические темные взгляды, в которых ощущение превосходства, блеск злорадного удовольствия и этакое заговорщическое подмигивание, как если бы они сдерживали смешок, демаскирующий всю мистификацию. Некоторые из них были узнаны толпой, но веселый окрик тотчас подавляется устрашающе опущенными ружейными стволами. Никого не тронув, они минуют нас. Все улицы вновь переливаются тревожной, хмуро молчащей толпой. Над городом стоит глухой шум. Впечатление, что издалека, стуча колесами, подходит артиллерия, громыхают зарядные ящики. — Мне надо обязательно попасть в лавку, — говорит отец, бледный, но решительный. — Не ходи со мной, ты только помешаешь, — добавляет он, — возвращайся в Санаторию. — Голос трусости велит мне послушаться. Я вижу, как отец втискивается в плотную стену толпы и пропадает из виду.
Боковыми улочками я торопливо пробираюсь в верхнюю часть города. Я полагаю, что крутыми этими дорогами можно обойти по дуге городской центр, запертый людской толчеей.
Тут, в верхней части города, толпа была поменьше, а потом вовсе исчезла. Я спокойно шел по пустым улицам к городскому парку. Там, точно траурные асфодели, горели тусклыми голубоватыми огоньками фонари. Каждый был обтанцован множеством тяжких, как пули, майских жуков, несомых косым боковым летом вибрирующих крылышек. Несколько их, упав, неуклюже ползали по песку, выпуклые, сгорбатившиеся жесткими надкрылками, под которые пытались сложить тоненькие развернутые летательные перепонки. По газонам и тропинкам прогуливались прохожие, увлеченные беззаботным разговорам. Последние деревья нависали над дворами домов, расположенных ниже в ложбине и прижатых к парковой стене. Я собираюсь преодолеть стену, которая с моей стороны достигает груди, а извне заканчивается на уровне дворов высокими до второго этажа откосами. В одном месте меж дворов в уровень стены — насыпь из утрамбованного грунта. Я без труда преодолел стену и узкой этой насыпью выбираюсь между кучно стоящих домов к улице. Мой расчет, основанный на прекрасной пространственной интуиции, оказался верен. Я вышел почти против санаторного здания, флигель которого неясно белелся в черном обрамлении деревьев. Я вхожу, как обычно, с тыльной стороны, через ворота в железной изгороди двора и уже издали вижу на посту пса. От этого зрелища меня, как всегда, охватывает дрожь отвращения. Я хочу поскорей пройти мимо, дабы не слышать рвущегося из самого сердца стона ненависти, как вдруг, не веря глазам, к своему ужасу, вижу, что он прыжками отделяется от будки, бежит отвязанный вокруг двора с глухим, долетающим, как из бочки, лаем, намереваясь отрезать мне отступление.
Читать дальше
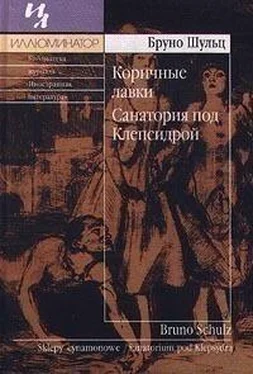


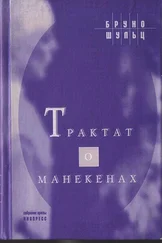



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


