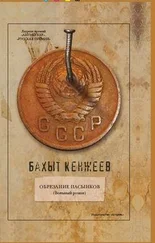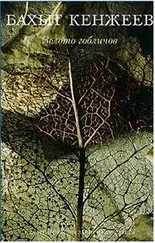— Ежедневно, если не ежеминутно, ему приходилось кривить душой, чтобы заработать на кусок хлеба с маслом.
— Он не верил в Бога и пренебрегал Его утешением. Гордыня его была воистину непомерной, но сам он страдал от этого больше всех.
— Он терпеть не мог убивать кошек, а сколько раз приходилось ему по разнарядке райкома заниматься забоем и обдиркой!
— Ох, граждане, товарищи вы мои!—засмеялся Иван.—Он у вас прямо святой какой-то выходит! Среда его, видите ли, заела, агнца Божьего! И вы все о своем Боге!—упрекнул он Евгения Петровича.—И вы, Марья Федотовна, тоже придумали — кошек ему, видите ли, свежевать не по чину, подумаешь, цаца! Чем он лучше других? Хотя,—он помедлил,— мне чем-то по душе ваша всеобщая сердобольность. В самом деле, ведь не звери же мы, не леопарды какие-нибудь. Хотите что-то добавить, Феликс? Милости прошу!
— Мне идея ваша очень нравилась, — начал Феликс, почесывая бороду.—Коммунизм, в смысле. Все счастливы, за исключением выродков. Общий порыв. Вся плесень в человеческой душе истребляется, и на смену ей приходит объединенное движение к благородной цели. Вот вы, простые советские люди, вы знаете, как омерзителен буржуазный строй со всей его свободой и материальным изобилием?
— Знаем!
— Как не знать!
— Инфляция и безработица! — протрубил полковник Горбунов.
— Ну, это вы бросьте! Со всей инфляцией и безработицей у нас все равно такая жизнь, какая вам и не снилась. То бишь,—поправился он,— бедность, конечно, тоже есть...
— Лично наблюдал стариков на Сорок второй улице, вынимавших из мусорных ящиков окурки,—вставил Розенкранц,—о Гарлеме и не говорю.
— ...но она просто поживописней, ваша пострашнее будет. Дело не в ней, а в бесцельности и пошлости нашей жизни. Вот мы и ищем выход. А у вас, друзья мои, жизнь еще пошлее, еще отвратительней. А в Албании просто концлагерь во всю страну. И чего же, спрашивается, делать прикажете? Я вам расскажу,—оживился он,—мы в августе прошлого года объявили двух пленных заложниками за наших ребят. Слышим по радио— отклонили апелляцию, приговор приведен в исполнение. Что ж, спозаранок идем в палатку к пленным, снимаем с них наручники, ноги связываем да и ведем к реке. Знаете, у нас в джунглях никаких таких страстей с копанием могил перед расстрелом не нужно,—пояснил он,—там пираньи. По дороге один из них, Хосе, мне и говорит...
— У, троцкистская твоя душонка, Феликс!—взвился полковник Горбунов. — Чего ты лирику разводишь? Ну, шлепнули заложников, велика ли беда? Вон Владимир Ильич тоже заложников брал, чтобы хлеб стране вовремя поставляли, и учил: чем больше расстреляем, тем лучше. И что это вы за помощью к китайцам сунулись? С нами бы скорей победили, а победителей, как известно, что? Не судят! О своих бы товарищах лучше подумал, дурень. Ладно, хватит болтать. Как же все-таки нам быть с гражданином Соломиным? По имеющимся у нас сведениям, он намерен с помощью поддельных документов сотрудника общества «Знание» проникнуть в погранзону, якобы для чтения лекций. Вкрасться в доверие к командиру одной из застав и, улучив момент, пересечь госграницу, в дальнейшем попросив у властей сопредельной империалистической державы политического убежища. Каков подлец, а!
— Это вы загнули, гражданин начальник,—сказал Глузман.—Лично я никакой подлости в этом не вижу. Хочет человек жить в другой стране, и пускай себе живет.
— Ты еще Декларацию прав человека помяни, — беззлобно огрызнулся полковник.—Дурень, не зря в лагере сидишь. Как же мать его? А отец? А родина, которая, как известно, дороже матери? Не-ет, не можем мы себе позволить терять людей. С иностранкой переспал? И что с того? Так у нас пол-Москвы за границу навострится — вон сколько этих иностранок развелось, задницами виляет! Он, понимаете ли, обиделся! Он несчастный! А мы что, счастливые?—Горбунов ухмыльнулся собственной шутке.—Я, к примеру, со своим допуском—в эту заграницу, даже в Болгарию сраную, в жизни не попаду. Два года подряд отпуска летом не дают! В санаторий комитетский поехал—чуть язву желудка себе не нажил! В кооперативе нашем всякий стройматериал с кровью, с потом выбиваю! Сын — бездельник, чуть дела не провалил, чистюля, а как я старался, чтобы его с оперативной работы на следовательскую перевели, перед генералом унижался! Теперь разводиться собрался. Согласен, супружница у него была не сахар. Но кто у него в свое время нормальную бабу отбил?
— Собака на сене,—проворчал Струйский.
Собравшиеся оживились. В дальнем углу кто-то закурил в кулак, распространяя удушливый запах махорки. Снова зазвенел истоминский колокольчик.
Читать дальше