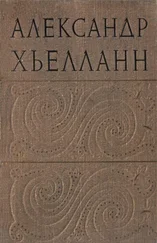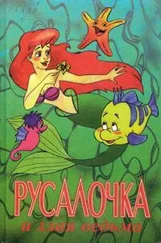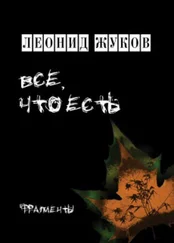Музыка придавала мне сил, и от этого вырастали крылья, уносившие в неведомые миры райских ощущений и освобождавшие от бремени жизни. Город был старинный, дворянских построек еще не коснулась рука Корбюзье: разрушительная сила современной архитектуры не дошла сюда. Среди серых мрачных казарменных построек стоял нарядный красный особняк в два этажа с уютно горящими окнами, украшенными белым лепным орнаментом в барочном стиле.
Особняк поманил меня. Я остановился и стал разглядывать его окна. Этот дом, как мне показалось, принадлежал благородному собранию, был какой-то чудесной игрушкой, напоминающей базилику, в которую зодчий вложил весь свой талант. На улице было темно и сыро, а из раскрытых окон особняка веяло теплом натопленных комнат. В огромном зале с портретами генералов на стенах горела огромная люстра, мерцающая тысячами огней Стены были обтянуты шелковыми обоями шафранного цвета, генералы были написаны во весь рост, а пол был накрыт восточным ковром, поглощающим это мерцание, скользящее по его пурпурной рытой поверхности. По этому ковру неслышно ступали ноги крадущегося к фортепиано чиновника, чтобы переворачивать страницы аккомпаниатору.
Из окна неслись трепетные и восторженные звуки скрипки. В них было столько мольбы и рыданий, что рисовались образы, исполненные ангельского совершенства. Я остановился, потрясенный, и, сложив руки на груди, как на молитве, перерождался в духа, забыв, что стою на земле, и, подобно тому, как летают во сне, уже летел к окну, где виднелась голова и плечи играющего. Он отражался в огромном зеркале в тяжелой раме с позолоченными амурчиками и массивными гирляндами, отлитыми из алебастра. Бледное лицо с польскими глазами навыкате было устремлено в заоблачный мир фантазии, бородка и усы уже смердели, говорили о том, что жить ему осталось совсем мало. Длинные сальные волосы, спадающие на ворот сюртука, разоблачали в нем человека, ничем не отличающегося от смертных. Это делало его еще загадочнее и милее. Скрипка его стонала под натиском исполнительской воли. И было удивительно, как она выдерживала натиск: казалось, еще немного усилия — и он мог раздавить ее, как хрупкую хлопушку, в какие превращаются высохшие садовые колокольчики с позванивающими семенами.
Все окна в доме горели ярким светом и были раскрыты настежь. Звуки из окон вылетали очищенными, исполненными глубины вокального совершенства. Напоминая бархат на свежем горном воздухе, смоченный кровью, они брали душу в плен с неотразимой властью и сводили с ума. По всему было видно, что это играл легендарный скрипач. Я догадался, что это был Венявский, а в доме, куда я не посмел попроситься, находился весь девятнадцатый век. Тех, кто слушал его, не было видно, потому что они сидели, а Венявский стоял. Фортепиано бушевало каскадом льющихся арпеджио; упитанная спина скрипача, обтянутая черным сукном, обсыпанным перхотью, мелькала в окне и кланялась, а ниже спины, куда я не мог заглянуть, раздавались возгласы: нежные женские голоса, напоминающие птичий гомон, и мужские — рев быков в стаде; ни дать ни взять как в хоровой партии.
Отдельные реплики, смех, выстрелы пробки шампанского и небрежное глиссандо по клавиатуре фортепиано временами прерывали игру. Но потом, когда страсти умолкали, восстанавливалась концертная среда, наступала таинственная тишина — и скрипач с еще большим пылом растрачивал последние силы, играл польские мотивы, словно молебен по своему короткому веку, оканчивающиеся бешеными пассажами, похожими на протест против судьбы. Порой он вспоминал светлое детство и играл на один смычок столько отскакивающих нот, сколько горошин в стручке. У дам это вызывало смех восторга.
Как мне потом сказали, это был действительно Венявский.
На станции Кавказская к справочному окну подошел старик в грязном брезентовом плаще, впитавшем в себя грязь вокзалов и лавок в городских садах. На смычке старик держал свору легавых, таких же грязных, как и он сам, с репьем в спутанных хвостах. Окно, из которого отвечала дежурная, было настолько глубоко вмуровано в толстую стену, что напоминало глубокий туннель. Станция построена в прошлом веке, и немудрено, что стены тогда клали крепостные.
Надеясь на микрофон, выведенный наружу для усиления ответов, дежурная особо не старалась надрываться и шептала себе под нос. Большинство ответов не достигало ушей измученных пассажиров, прикованных к вокзалу на несколько дней.
Читать дальше