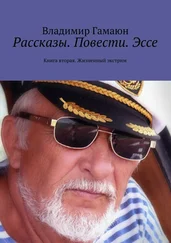И вот, значит, я — двадцатишестилетний никто в красной куртке, не нужный ни Богу, ни дьяволу, ни крабам в мерзлой реке.
От ледяного ветра и изнеможения слезились глаза. Опустошенный, я решил вернуться на мост. Попробовал идти, но не рассчитал силы и, оступившись, провалился в снежный бурелом, в переплетение когтистых, цепких веток, с размаху ухнул, прогнувшись и едва не переломив хребет, обо что-то твердое и ледяное.
Меня сдавили, облепили груды тел; я видел руки, которые беспомощно тянулись к свету, зловонные, беззубые, ввалившиеся рты, гримасы ужаса и отчаяния; сотни страждущих существ, которых колесуют, распинают, топят, потрошат и душат, сажают на кол, вешают на крюк, нанизывают на струны, освежевывают, четвертуют, сжигают заживо; которые гниют среди отбросов, в остовах рыб и мякоти плодов, огромных, смрадных, хищно-ярких; которых заглатывает синюшный уродец с птичьей головой, сидящий на высоком троне и испражняющийся ими в выгребную яму. Гидры, грифоны, удоды, ползучие гады, плавучие птицы, рыбы без головы; тухлые яйца, завязшие в жиже; сонмы чудовищ, скроенных на скорую руку, легионы чертей, приводящих в действие пыточные механизмы; щупальца, панцири, клювы, крылья, клыки, хвосты в колючках и роговых щетинках, безумные зрачки, в которых отразились багровые языки пламени…
Очнулся я от резкой боли в ногах; приподнял голову, жадно вдыхая морозный воздух и выдыхая раскаленный, кроваво-красный пар. Редкие колючие снежинки обдирали горло. Я лежал на собственных отбитых почках, боясь пошевелиться и ощущая их как два раздавленных, влажно рдеющих апельсина. Живот горел, и пульсация боли казалась невыносимо гнусной, точно у меня внутри ворочалось ворсистое, омерзительное насекомое. Пахло кошатиной и старой селедкой. Старик в облезлой шапке сосредоточенно обшаривал мои карманы. Я сказал ему, что устал и запутался. Он понимающе кивнул, деловито стянул с меня шарф и слился с чернотой.
Очнулся я от резкой боли в ногах и оттого, что кто-то энергичными рывками сдирает с меня куртку. Куртка не поддавалась. Руки оторвет, апатично подумал я.
Очнулся я от резкой боли в ногах и тщетно нашаривал руки, пока не осознал всю парадоксальность поиска. Голова горела. Почки вмерзли в лед; я беспокойно дернулся, и они откликнулись пронзительной болью. Я долго и мучительно отползал, нащупывая саднящим телом эфемерную опору и загребая руками снег. Поняв, что это будет длиться бесконечно, что никаких опор не существует, я волевым усилием, от которого зловеще загудело в голове, заставил себя сесть. Умывшись снегом, отчего бешено дернулась и запульсировала бровь, я попытался застегнуть куртку, не очень в этом преуспев. Я, не снимая, носил ее вот уже несколько дней, как ладанку или вторую кожу, и старику не стало сил ее с меня содрать. Вполне возможно, что это был благочестивый, богобоязненный вор, с особой щепетильностью блюдущий воскресенья и праздники, и забубены возбраняли ему работать на Святки в полную силу.
Холода я не ощущал, возможно, благодаря въедливой сверлящей боли, раскручивающейся от позвоночника к затылку. Одновременно со сверлящей болью прямым пронзающим столбом горела боль тупая. Осознав полную и безоговорочную беспомощность, я попытался сжиться с болью, укрыться ею, угреться в ней, но она только усиливалась, отметая все попытки примирения. Только мне начинало казаться, что вот сейчас я не выдержу, умру, сольюсь с небытием — спасительным и утешительно пустым, — как новый виток боли приносил страдания, еще более беспощадные и непереносимые. Я не боюсь смерти — она ручная и вовсе не страшная, я много лет кормил ее с ладони; другое дело физическая боль, которая отбрасывает человека обратно в первобытный мир. Человек, познавший превосходную степень страдания — когда мечтаешь о скорой смерти как об избавлении, — никогда не остается прежним. Однажды, загремев в больницу после очередной драки, я много дней подряд сидел на обезболивающем, неспособный думать ни о чем, кроме горячей смолянистой муки, от которой плавилось и ныло тело; я извивался и стонал, скрипя зубами и кроша ладонью стаканы с водой, которые мне вместе с таблетками подавала испуганная сестра. И я не знаю, о чем бы выл мой изможденный мозг — вопреки совести, сердцу, стыду, — если бы в ту самую минуту, на пике боли, я бы узнал о смерти, чудовищной трагедии, апокалипсисе. Никто не может поручиться, что боль не сделает из него чудовище, рыхлого, бесчувственного голема. Сознание пасует перед болью, а у души бывает слишком тихий голос, чтобы эту какофонию перекричать. Смерть не страшна, это всего лишь мгновение. Страдание — единственное, что может длиться вечно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу