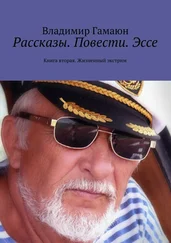Пруд представлял собою кашу, в которой кисли крашеные покрышки и покачивались утки, похожие на поплавки и не подозревающие о Сэлинджере. Об утках думать легко и приятно, уткам нечего терять: они упитанные и опрятные, у них головы ярче павлиньего пера, у них морковные лапки и гладкие перышки, у них клюв желтым тюльпаном; а вот что происходит зимой с жабами, с уродливыми склизкими жабами, куда они деваются, кто-нибудь об этом подумал? Меня занимают зимние жабы, чем уродливее, тем лучше.
Я не задумывался, куда иду, — хотелось упасть, зарыться в снег, остудить раскаленную голову, которую пронзала боль и раздирал многоголосый ропот. Был в этой какофонии один невыносимый голос, звучавший обвинительным речитативом, печатавший жестокие слова, назойливый и злой, как детская считалочка. Убийца, убийца, убийца.
В какой-то миг я с удивлением обнаружил себя среди облупленных колонн. Ноги сами принесли меня к школе.
Было гулко, утешительно тихо. За колоннами синел школьный двор с косыми отблесками окон на сугробах. Окна актового зала светились матовым теплом. За спущенными шторами с косматой каемкой тени от мишуры двигались призрачные фигуры. Из открытого окна во двор летел гомон рассаживающейся публики. Зарывшись в воротник по самые глаза, я отделился от колонны, пересек двор, проскрипел по комковатым развалам убранного снега и взбежал на крыльцо.
В холле царило праздничное оживление: вдоль стен, украшенных мишурой и гроздьями шаров, разгуливали персонажи “Ночи перед Рождеством” — в черевичках, монистах, жупанах. Хлопотливые дамы доклеивали что-то сложносочиненное над дверью в столовую, путаясь в бумажном вихре разметавшихся обрезков. Повсюду мельтешили обсыпанные блестками снежинки, хрустя кринолинами и старательно изображая снегопад. Приставленная к ним мучительница с испитым лицом расхаживала между рядами воспитанниц, выравнивая колени и вывихивая спины.
На втором этаже меня встретил все тот же хаос судорожных приготовлений. Группа казаков и казачек, в сумбуре длинных разноцветных лент и красных шаровар, под ритмичные рыки дебелой дамы в спортивных штанах оттачивала последние па перед выступлением. Все артисты были накрашены с той беспрецедентной свирепостью, с которой это принято среди богемных школьных капельмейстеров.
Мимо пролетел, скользя и раскинув руки в стороны, угловатый дьяк с черной кисточкой бородки. Вслед за ним промчались разгоряченные черт с Солохой, волоча присевшего на корточки голову с усами в пол-лица. Все трое безудержно хохотали. Прошла учительница, рассеянно поправила гирлянду и прикрикнула на черта, который, принимая перед зеркалом царственные позы, примерял кусок бесхозной мишуры. Нечистая сила попыталась повесить вину на служителя культа, но была поймана за руку. Ведьма в монисте продолжала раскатывать посыпанный стеарином пол, а голова, придерживая накладной живот, озадаченно дергал гирлянду.
Я часто думал о детях, представлял себя отцом семейства с орущим младенцем в каждой руке, завзято меняющим подгузники и приготовляющим молочные смеси, но тут же скомкивал идиллию: дети означают жизнь, отодвигают смерть и отменяют своеволие, захлопывают выход в никуда, возможностью которого я слабо утешался. Мне был необходим сквозняк, дверь в тамбуре, свистящая холодным воздухом, свобода распахнуть ее, хотя бы и гипотетическая. Вдобавок, худшего отца нельзя вообразить. Несчастнее моей сестры, наверное, только я сам. Я помнил ее насупленным комочком в кузове клетчатой коляски: комочек спал очень чутко, выпрастывая иногда крохотные кулачки и прижимая их к вискам, словно бы ужасаясь тому, что его ожидало. В этом пронзительном жесте было что-то смутно знакомое — горечь, протест, — хотелось тут же разбудить комочек и, глядя в мудрые глаза, спросить об истине, добре и зле, о чем-нибудь наивно-нелепом, вроде любви к человечеству и мира во всем мире. Сколько я ее помню, сестра все время норовила опрокинуться, как валкий плюшевый медведь, а я неуклюже ее удерживал. Мы жутко ссорились, особенно в последнее время. Я вовсе не пример для подражания — я контрпример.
Сейчас же думать о детях, видеть детей было нестерпимо: перед глазами вставал дорожный знак, бегущие фигурки в красном треугольнике.
Я заглянул в учительскую, обшарил коридор и классы, набитые орущими детьми и их родителями, протиснулся ко входу в актовый зал, бесцеремонно сунулся туда под шики возмущенной публики, увидел елку, занавес, софиты, говорящие головы на сцене и торжественные — в зале. Оксаны нигде не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу