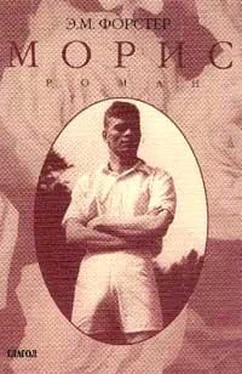— Просыпайся! — в сердцах крикнул Морис.
Ада проснулась.
— Ты же не услышишь входную дверь, когда придет сиделка!
— Как мистер Дарем?
— Очень болен. Опасно болен.
— Ой, Морис, Морис!
— Сиделка пусть остается. Я звал тебя, но ты не слышала. Ладно, иди спать, все равно от тебя никакого толку.
— Мама сказала, мне надо тут быть, потому что даму не должен впускать в дом мужчина — это неприлично.
— Не понимаю, как вы успеваете думать о таком вздоре, — сказал Морис.
— Мы должны заботиться о репутации нашего дома. Он помолчал, а потом закатился тем смехом, что был так неприятен сестрам. В глубине души они вообще недолюбливали Мориса, но боялись в этом признаться. Лишь его смех вызывал у них открытое недовольство.
— Сиделки плохие. Ни одна порядочная девушка не станет сиделкой. И уж наверняка они не из хороших семей, иначе сидели бы дома.
— Ада, а давно ли ты сама перестала ходить в школу? — спросил брат, наливая себе выпить.
— Ходить в школу я и называю сидеть дома.
Он со стуком поставил стакан и вышел из комнаты. Глаза у Клайва были открыты, но он не заговорил и никак не отреагировал на возвращение Мориса. Приход сиделки также не вызвал у него никакого интереса.
Через несколько дней стало ясно, что с гостем ничего страшного. Болезнь, несмотря на драматическое начало, оказалась не столь серьезной, как предшествующая, и вскоре Клайву было разрешено переехать в Пендж. Внешний вид и душевное состояние его оставались неважными, но после инфлюэнцы это было естественно, поэтому никто, кроме Мориса, не испытывал беспокойства.
Морис редко задумывался о болезни и смерти, но всякий раз он думал о них с отвращением. Нельзя, чтобы они портили жизнь ему и его другу. И он отдавал свое здоровье и молодость, чтобы повлиять на Клайва. Он постоянно был при нем, наезжал без приглашения в Пендж на уик-энды и праздники, собственным примером, а не поучением, стараясь его взбодрить. Клайв не отзывался. Он мог оживиться в компании и даже проявить интерес к проблемам, то и дело возникавшим между Даремами и английским народом, но когда они оставались вдвоем — он погружался в уныние, почти все время молчал, а если разговаривал, то полушутя, полусерьезно, что свидетельствовало об умственном истощении. Клайв окончательно решился поехать в Грецию. Это было единственной темой, за которую он крепко держался. Он обязательно поедет, хотя бы в сентябре, и один. «Непременно, — говорил он. — Я дал обет. Каждый варвар должен хоть однажды увидеть Акрополь».
Мориса в Грецию не тянуло. Его интерес к классическому искусству, слабый и неосознанный, пропал, когда он полюбил Клайва. Рассказы о Гармодии и Аристогитоне, 6 6 Юноши, согласно легенде убившие афинского тирана. Впрочем, документы это не подтверждают (Фукидид). О их любви упоминается в диалоге Платона «Пир».
о Федре, о фиванских воинах — интересны тем, у кого пусто на сердце, да и то они не замена жизни. То, что Клайв нередко отдавал им предпочтение, озадачивало Мориса. В Италии, которая ему нравилась, несмотря на кухню и фрески, он отказался пересечь море ради еще более священной земли по ту сторону Адриатики. «Я слышал, там ничего не реставрировано, — таков был его аргумент. — Груда древних камней, даже не разрисованных. Во всяком случае это, — он указал на библиотеку Сиенского собора, — что ни говори, находится в рабочем состоянии». Клайв в восторге прыгал по плитам Пикколомини, и смотритель лишь посмеивался вместо того, чтобы сделать ему внушение. В Италии было чудесно — что душе угодно для любителей достопримечательностей — но в последние дни у них вновь зашел спор о Греции. Морис теперь ненавидел одно это слово и со странным упорством связывал его с болезнью и смертью. Что бы он ни затевал: играть в теннис, нести чепуху — во все вторгалась Греция. Клайв заметил его антипатию и дразнил Мориса, причем не всегда по-доброму.
Но Клайв и не был добрым. Для Мориса это явилось важнейшим из всех симптомов. Клайв мог ранить сказанным будто невзначай словом, пользуясь для этого сведениями личного характера. Но он терпел неудачу: сведения его были неполными, иначе он знал бы, что разозлить влюбленного атлета невозможно. Если Морис иногда и огрызался, то лишь потому, что считал гуманным ответить — он не принимал Христа, подставлявшего другую щеку. Внутренне он ни на что не досадовал. Желание быть вместе оказывалось сильнее обиды. Но порой с беззаботным видом он заводил встречный разговор и нарочно задевал Клайва за живое, следуя, однако, собственной дорогой к свету — в надежде, что друг пойдет за ним.
Читать дальше