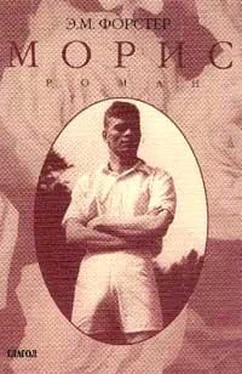— Ах, Холл, не юродствуй… Тебе ли не знать, до чего тяжело мне оставаться с тобой наедине! Пожалуйста, не начинай опять. Все кончено. Кончено. — Он прошел в другую комнату и начал раздеваться. — Прости мою неучтивость, но я просто не могу — за эти три недели нервы у меня стали никуда.
— У меня тоже! — воскликнул Морис.
— Бедняжка!
— Дарем, для меня наступил сущий ад.
— Ты выкарабкаешься. Это ад омерзения. Ты ведь не совершил ничего постыдного, значит, ты не можешь знать, что такое настоящий ад.
Морис издал страдальческий стон — такой неподдельный, что Дарем, собравшийся было закрыть между ними дверь, сказал:
— Отлично. Если хочешь, обсудим. Только что именно? Ты словно собрался просить прощения. С чего это вдруг? Ты ведешь себя так, будто это я на тебя сержусь. Ты-то что дурного сделал? Ты был исключительно порядочен от начала и до конца.
Морис протестовал, но напрасно.
— Настолько порядочен, что я обыкновенное дружелюбие принял за бог весть что. Ты был так добр ко мне — особенно в тот день, когда я вернулся из дому — вот я и подумал, что это нечто иное. Никакие слова не способны передать моего раскаяния. Я не имел права выходить за рамки моих книг и музыки, а именно это я и сделал, когда повстречал тебя. Видимо, мои извинения нужны тебе не больше, чем все остальное, что я могу предложить, но, Холл, я делаю это от чистого сердца. Меня не перестает мучить то, что я тебя оскорбил.
Голос его звучал тихо, но отчетливо, а лицо было неумолимо, словно меч. Морис проговорил какие-то напрасные слова про любовь.
— Я думаю, хватит. Побыстрей женись и забудь.
— Дарем, я люблю тебя.
Тот горько засмеялся.
— Я всегда…
— Спокойной ночи, спокойной ночи.
— Говорю тебе, я люблю… Я пришел сказать тебе это… так же, как и ты мне сказал… что я всегда был, как древние греки, и не знал об этом.
— Выражайся яснее.
Слова немедленно его покинули. Он умел изъясняться только тогда, когда этого не требовали.
— Холл, ты смешон, — сказал Дарем и поднял руку, останавливая Мориса, который хотел его перебить. — Я понимаю: очень порядочный молодой человек пришел меня утешить, но существуют же границы! Есть такое, что даже я не в состоянии вынести.
— Я не смешон…
— Извини, сорвалось с языка. Правда, оставь меня. Спасибо, что я попал в твои руки. Другой донес бы на меня декану или заявил в полицию.
— Иди ты к черту, там тебе самое место! — выкрикнул Морис, ринулся во двор и услышал за спиной звук хлопнувшей двери. В бешенстве он стоял на мостике, и ночь — сырая, с едва просвечивающими звездами — напоминала ту, первую. Он не учитывал того, что некто три недели испытывал мучения, не похожие на его собственные, и того, что яд, выделяемый одним, иначе действует на другого. Он негодовал, что нашел друга не таким, каким его оставил. Пробило полночь, час, два, а он продолжал думать, что сказать, когда говорить было нечего и возможности беседы были исчерпаны.
И вот, взбешенный, дерзкий, вымокший под дождем, он увидел с первым проблеском рассвета окно Дарема. Сердце ожило и запрыгало, и затрясло его. Оно кричало: «Ты любишь и любим». Морис обвел взглядом двор. Сердце кричало: «Ты силен, а он слаб и одинок». И сердце овладело его волей. Страшась того, что ему предстоит совершить, Морис ухватился за столбик, разделявший оконные проемы, и впрыгнул.
— Морис…
Приземлившись, он услышал свое имя, названное во сне. Ожесточение ушло из его сердца, и свободное место заняла чистота, о которой он никогда не помышлял. Его друг позвал его. Минуту он стоял потрясенный, а затем новое чувство нашло для него слова, и, осторожно положив руку на подушку, он ответил:
— Клайв!
Клайва, когда тот был мальчиком, мало что могло поставить в тупик. Вместо этого его искренняя душа, остро чувствовавшая, что хорошо, а что плохо, принудила его поверить, что на нем лежит проклятье. Глубоко религиозный, имевший страстное желание дойти до Бога и угодить Ему, он в раннем возрасте обнаружил в себе иное желание — происхождения, очевидно, содомского. Он ничуть не сомневался, куда оно нацелено: его эмоции, не столь расплывчатые, как у Мориса, не делились на брутальное и идеальное, и он не возводил годами мост над пучиной. Им владело побуждение, принесшее некогда гибель Содому и Гоморре. Оно не обязательно должно было становиться плотским, но почему из всех христиан именно ему выпало такое наказание?
Сначала он думал, что Господь испытывает его и что, если он не станет богохульствовать, то и Господь вознаградит его, как Иова. Поэтому он склонял голову, усердно постился и держался в стороне от тех, к кому испытывал тягу. Шестнадцатый от роду год прошел в неослабных муках. Он ни с кем не делился и в конце концов испытал нервный срыв, отчего пришлось бросить школу. Поправляясь, он нежданно влюбился в кузена, молодого женатого мужчину, который возил его на прогулку в больничном кресле. Итак, надежды не было — на нем лежало проклятье.
Читать дальше