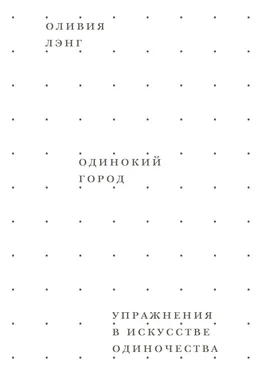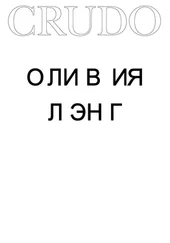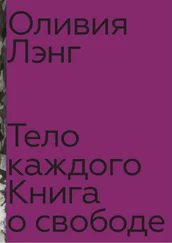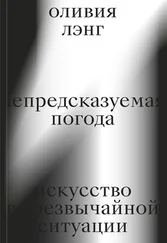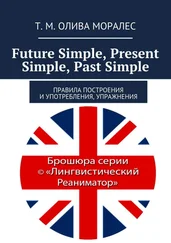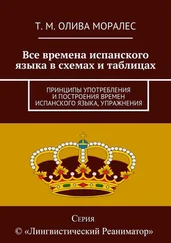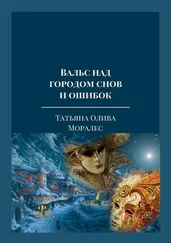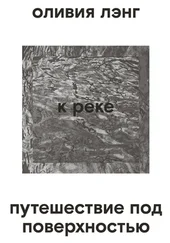«Делать из частного общественное — жест, у которого в штампованно-изобретенном мире потрясающие последствия», — говорил Войнарович, но это не сработало так, как он себе представлял, ни в коей мере.
В начале весны моя субаренда в Ист-Виллидже истекла, и я переехала во временное обиталище на углу Западной Сорок третьей и Восьмой авеню, на десятый этаж того, что в свое время было гостиницей «Таймс-сквер». На юге виднелись зеркальные окна гостиницы «Уэстин». Спортзал находился у меня на уровне глаз, и время от времени, и днем и ночью, я ухватывала взглядом какую-нибудь фигуру, крутившую колеса на велотренажере. Второе окно смотрело на ряды магазинов фототехники, продуктовые лавки, пип-шоу и стриптиз-клубы «PLAYPEN» и «LACE»: в их двери вливались потоком мужчины с рюкзаками и в бейсболках.
На Таймc-сквер не темнеет никогда. Это рай искусственного света, в котором старые технологии, неоновые вычурности в виде стаканов виски и танцующих девиц уже вытесняла неумолимая безупречность светодиодов и жидких кристаллов. Я частенько просыпалась в два-три часа ночи и смотрела, как волны неона прокатываются по моей комнате. С такими вот незваными вторжениями в ночь я выбиралась из постели и раздергивала бесполезные занавески. Снаружи висел громадный медиакуб — гигантский электронный экран, без конца крутивший шесть-семь реклам. В одной происходила перестрелка, другая испускала холодный голубой пульсирующий свет, настырный, как метроном.
Новое жилье я нашла себе, по обыкновению бросив клич в Facebook. Оно принадлежало приятельнице приятельницы, с которой я не была знакома. В электронном письме она сообщила мне, что комната очень маленькая, со встроенной кухонькой и уборной, а также предупредила и об уличном движении, и о рекламе. Не упомянула она одного: здание было приютом — передовой разработкой благотворительной организации «Common Ground», которая сдавала дешевые одноместные номера работающим профессионалам, а вдобавок селила на более-менее постоянной основе публику из числа давнишних бездомных, в особенности больных СПИДом и людей с серьезными душевными расстройствами. Это мне объяснил один из двоих охранников-консьержей, он же выдал мне белую электронную карточку, при помощи которой мне предстояло входить в здание и выходить из него, и отвел меня к моей комнате — показать, как работают замки. Он только что заступил на работу и в лифте сообщил о местном населении, рассказал о том, что я, может, увижу, а может, и нет, — «если вас это не тревожит, то и ладно».
Коридоры были выкрашены в больничный зеленый, залиты красным и белым — от настенных и потолочных светильников и от указателей «Выход». Моя комната оказалась ровно той величины, чтобы в ней помещались матрас, стол, микроволновка, мойка и маленький холодильник. В ванной висели бусы с Марди Гра, по стенам — книги и мягкие игрушки. Сквозь стены просачивались звуки стереосистем и телевидения, снаружи из выхода метро возле Портовой администрации непрестанно текли толпы людей.
Это был эпицентр XXI века, и жила я здесь соответственно. Каждый день просыпалась и, не успевали мои глаза толком открыться, тащила в постель ноутбук и проскальзывала в Twitter. Первое — и последнее, — что я видела, этот ниспадающий свиток в основном посторонних людей, организаций, друзей — того эфемерного сообщества, в котором я была бесплотным и переменчивым духом. Перебирала бесконечный перечень, и личный, и общественный: раствор для линз, книжная обложка, известие о смерти, фото с протеста, открытие выставки, анекдот про Деррида, беженцы в лесах Македонии, хештег «стыд», хештег «лень», изменение климата, потерянный платок, анекдот про далеков — поток данных, чувств и мнений, которому в некоторые дни (на самом деле в большинство дней) я уделяла больше внимания, чем всему прочему в окружающей меня действительности.
Twitter — лишь вход, портал в бескрайний город интернета. Целые дни уходили на тычки курсором, мое внимание вновь и вновь обшаривало карманы и лестницы данных — отсутствующая пылкая свидетельница мира, Волшебница Шалотт [135] «The Lady of Shalott» (1833, 1842) — баллада английского поэта Альфреда Теннисона по мотивам легенды из Артуровского цикла; была популярным сюжетом у художников-прерафаэлитов.
спиной к окну, следит за тенями действительного, как они возникают в заемном синем стекле ее чудодейственного зеркала. В эпоху бумаги, в прошлом веке, я так читала — закапывалась в книгу, а теперь глазела на экран — на моего катектического серебряного возлюбленного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу