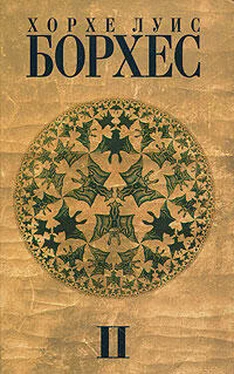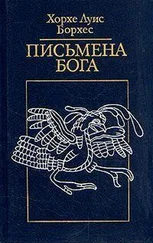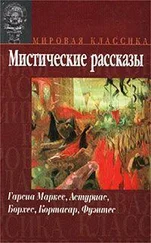Я сказал, что история секты не упоминает о гонениях. Это верно, но, поскольку нет такой группы людей, среди которых не было бы адептов Феникса, правда и то, что нет таких гонений и мук, которых бы они не приняли и не перенесли. В сражениях на Западе и в далеких битвах на Востоке им доводилось век за веком проливать кровь под знаменами обеих сторон; они без труда причисляли себя к любой нации мира.
Без священной книги, сплотившей бы их, как Писание — Израиль, без общих воспоминаний и без этой второй памяти — единого языка, рассеянные по лицу земли, разнящиеся цветом кожи и чертами облика, они связаны ныне и до конца дней только одним — Тайной. Когда-то кроме Тайны бытовала еще легенда (или космогонический миф), но, не склонные углубляться, люди Феникса позабыли ее и хранят лишь темное предание о каре. О каре, завете или отличии — версии расходятся, и в них уже едва различим приговор Бога, обещавшего племени бессмертие, если люди его поколение за поколением будут исполнять обряд. Я собрал свидетельства путешественников, беседовал с патриархами, богословами и могу с уверенностью сказать: исполнение обряда — единственная религиозная практика, которой придерживаются члены секты. Обряд и составляет Тайну. Он, как уже говорилось, передается из поколения в поколение, но обычно к нему приобщают не матери и не жрецы: посвящение в Тайну — дело людей самого низкого разбора. Мистагогом служит раб, прокаженный или попрошайка. Даже ребенок может посвятить другого. Само по себе действие банально, мимолетно и не заслуживает описания. Для этого годятся пробка, воск или гуммиарабик. (В литургии упоминается грязь; ее тоже используют.) Для отправления культа нет нужды в особых храмах — достаточно руин, подвала или подъезда. Тайна священна, но при этом несколько смешна; обряд исполняют украдкой, втихомолку, и приобщенные о нем не рассказывают. Общеупотребительных слов для него нет, но он может быть назван любым словом, или, лучше сказать, каждое слово непременно отсылает к нему, и поэтому, что бы я при них ни упоминал, посвященные посмеивались либо смущались, чувствуя, что разговор зашел о Тайне. В германских литературах есть стихи, написанные членами секты; их внешний сюжет — море или сумерки, но по сути они — символы Тайны, и я слышал, как их молитвенно повторяли. «Orbis terrarum est speculum Ludi» [13] «Мир земной — зеркало игры» (лат.).
,— гласит апокрифическое изречение, внесенное Дю Канжем в «Глоссарий» [14] Речь идет о книге «Краткая история религиозных орденов, их символики и ритуалов» (Париж, 1658).
. Одни приверженцы не в силах исполнить простейший обряд без священного ужаса; другие презирают его, но еще больше — себя. Более авторитетны те, кто добровольно отрекся от Обычая и общается с божеством напрямую, без посредников; рассказывая об этом общении, они прибегают к метафорам литургии; так, Сан-Хуан де ла Крус пишет:
Девять небес разумеют, что Бог
верному сладостней пробки и грязи. [15] Такой строки в поэзии Сан Хуана де ла Крус нет.
Я удостоен дружбы многих горячих приверженцев Феникса во всем мире и убедился: по сути, Тайна представляется им пошлой, тягостной, скучной и, что еще страннее, немыслимой. Они не в силах понять, как это их предки снисходили до подобных пустяков. Самое необычайное в том, что Тайна до сих пор жива: вопреки всем земным превратностям, вопреки изгнаниям и войнам, она грозно пребывает с каждым верующим. Иные решаются утверждать, что она стала инстинктом.
Человек, который сошел с корабля в Буэнос-Айресе в 1871 году, носил имя Иоганнес Дальманн и был пастором евангелической церкви; в 1939 году один из его внуков, Хуан Дальманн, служил секретарем в муниципальной библиотеке на улице Кордова и чувствовал себя совершенным аргентинцем. По материнской линии его дедом был тот самый Франсиско Флорес из второго линейного батальона, что погиб в предместьях Буэнос-Айреса от удара копьем в стычке с индейцами Катриэля; из этих несхожих линий Хуан Дальманн (возможно, сыграла роль германская кровь) выбрал линию романтического предка, или романтической гибели. Футляр с выцветшим дагерротипным портретом бородатого человека, старая шпага, счастье и смелость, порой слышимые в музыке, наизусть известные стихи «Мартина Фьерро», годы, вялость и замкнутость развили его своеобразный, но не показной креолизм. Дальманн сумел за счет некоторого самоограничения сохранить остатки усадьбы на Юге, принадлежавшей Флоресам; в его памяти запечатлелся ряд бальзамических эвкалиптов и длинный розовый дом, некогда бывший алым. Дела, а возможно, и лень удерживали Дальманна в городе. Лето за летом он довольствовался сознанием, что владеет усадьбой, и уверенностью, что дом дожидается его на своем месте в долине. В конце февраля 1939 года с ним произошел неожиданный случай.
Читать дальше