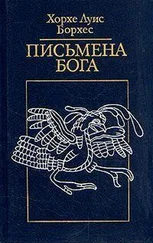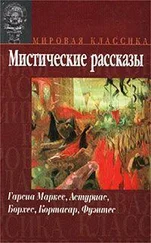Мой долг предупредить читателя, что он напрасно будет искать помешенный здесь эпизод в «Libellus» [1](1615) Адама Бременского, родившегося и умершего, как известно, в одиннадцатом веке. Лаппенберг обнаружил его в одной из рукописей оксфордской библиотеки Бодли и счел, ввиду обилия второстепенных подробностей, более поздней вставкой, однако опубликовал как представляющую известный интерес в своей «Analecta Germanica» [2](Лейпциг, 1894). Непрофессиональное мнение скромного аргентинца мало что значит; пусть лучше читатель сам определит свое к ней отношение. Мой перевод на испанский, не будучи буквальным, вполне заслуживает доверия.
Адам Бременский пишет: «…Среди племен, которые обитают вблизи пустынных земель, расположенных на том краю моря, за степями, где пасутся дикие кони, наиболее примечательное – урны. Невразумительные и неправдоподобные рассказы торговцев, трудности пути и опасение быть ограбленным кочевниками – все это так и не позволило мне ступить на их землю. Однако мне известно, что их редкие, слабо защищенные поселения находятся в низовьях Вислы. В отличие от шведов урны исповедуют истинную религию Христа, не замутненную ни арианством, ни кровавыми демонологическими культами, в которых берут начало королевские династии Англии и других северных народов. Они пастухи, лодочники, колдуны, оружейники и ткачи. Жестокие войны почти отучили их пахать землю. Жители степного края, они преуспели в верховой езде и стрельбе из лука. Все со временем начинают походить на своих врагов. Их копья длиннее наших, ибо принадлежат они всадникам, а не пехотинцам.
Перо, чернила и пергамент, как и можно было предположить, им неведомы. Они вырезают свои буквы, подобно тому как наши предки увековечивали руны, дарованные им Одином после того как он в течение девяти ночей провисел на ясене: Один, принесенный в жертву Одину».
Эти общие сведения дополню содержанием моего разговора с исландцем Ульфом Сигурдарсоиом, который слов на ветер не бросал. Мы встретились в Упсале неподалеку от собора. Дрова горели; сквозь щели и трещины в стене проникали стужа и заря. За дверями лежал снег, меченный хитрыми волками, которые разрывали на куски язычников, принесенных в жертву трем богам. Вначале, как принято среди клириков, мы говорили на латыни, но вскоре перешли на северный язык, который в ходу на всем пространстве от Ультима Туле до торговых перекрестков Азии. Этот человек сказал:
– Я – скальд; едва я узнал, что поэзию урнов составляет одно-единственное слово, как тут же отправился в путь, ведущий к ней и к ее землям. Спустя год не без труда и мытарств я достиг своей цели. Была уже ночь; я заметил, что люди, встречавшиеся на моем пути, смотрели на меня с недоумением, а несколько брошенных камней меня задели. Я увидел в кузнице огонь и вошел.
Кузнец приютил меня на ночь. Звали его Орм. Его язык напоминал наш. Мы перемолвились несколькими словами. Из его уст я впервые услышал имя их царя – Гуннлауг. Мне стало известно, что с началом последней войны он перестал доверять чужеземцам и взял за правило распинать их. Дабы избежать участи, подобающей скорее Богу, чем человеку, я сочинил драпу, хвалебную песнь, превозносящую победы, славу и милосердие царя. Едва я успел ее запомнить, как за мной пришли двое. Меч отдать я отказался, но позволил себя увести.
Были еще видны звезды, хотя брезжил рассвет. По обе стороны дороги тянулись лачуги. Мне рассказывали о пирамидах, а на первой же площади я увидел столб из желтого дерева. На вершине столба я различил изображение черной рыбы. Орм, который шел вместе с нами, сказал, что рыба – это Слово. На следующей площади я увидел красный столб с изображением круга. Орм повторил, что это – Слово. Я попросил, чтобы он мне его сказал. Он мне ответил, что простые ремесленники его не знают.
На третьей, последней, площади я увидел черный столб с рисунком, который забыл. В глубине была длинная гладкая стена, краев которой я не видел. Позднее я узнал, что над нею есть глиняное покрытие, ворота только наружные и что она опоясывает город. К изгороди были привязаны низкорослые, длинногривые лошади. Кузнецу войти не позволили. Внутри было много вооруженных людей; все они стояли. Гуннлауг, царь, был нездоров и возлежал на помосте, устланном верблюжьими шкурами. Вид у него был изможденный, цвет лица землистый – полузабытая святыня; старые длинные шрамы бороздили его грудь. Один из солдат провел меня сквозь толпу. Кто-то протянул арфу. Преклонив колени, я вполголоса пропел драпу. В ней в избытке были риторические фигуры, аллитерации, слова, произносимые с особым чувством, – все, что подобает жанру. Не знаю, понял ли ее царь, но он пожаловал мне серебряный перстень, который я храню поныне. Я заметил, что из-под подушки торчит конец кинжала. Справа от него была шахматная доска с сотней клеток и несколькими в беспорядке стоящими фигурами.
Читать дальше