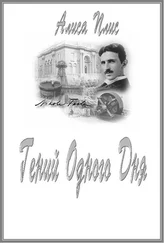— Не понукай — не запряг! — огрызнулся Харитон.
Но молчать и ему было невмоготу. — Хочешь слушать — не ёрзай! Свадьбу мы неделю играли: самогона — река, родни — море. Гуляли, аж гармонь треснула, всё гадали, как будем детей крестить… А тут смутные времена подошли. Филофея в армию призвали, а Бородичи в бандиты подались. Года три от него вестей не было, всякого надумались, из родни-то его только отец с пробитым черепом во сне и навещал. Торопил час расплаты, и про долг Филофей не забыл… Ночью раз стук в окно, я высунулся, а из темноты голос: «Ну что, зять, помогай!»
И «калаш» прикладом подаёт… Как было отказать?
Обулся наспех, жену поцеловал — и во двор… Младший Бородич, узнав, что с братьями стало — с ума сошёл, пишут — и сейчас в психушке. А старого Бородича мы не тронули — пусть мучается, что семя его на земле не прорастёт…
Ветер усилился, ветки с остервенением заскребли по стеклу, и Харитону почудилось, что это опять стучится Филофей. Он мотнул головой:
— Жестоко сработали… Уж столько потом крови перевидал, а всё думаю — не пролей я тогда первую, может, и жизнь по другому повернулась… Как считаешь?
Но не предавать же его было? А после, куда деваться — с ним ушёл…
— Значит, старику можно было убить, а вам — нет?
— Так он же тайком, а мы — прилюдно! Филофей настоял, чтоб все знали… И этим дорогу назад отрезал: мать навестить не мог! А какое ей утешение глядеть, как старый Бородич спивается? Вот и получается: молодость горячится — старость расхлёбывает…
Харитон махнул рукой. От его бравады не осталось и следа.
— «Жить хорошо там, где хорошо жить», — балагурил Филофей, связывая узелок. Сильный он был — мог всё бросить и в одной рубахе уйти. А сильные долго не живут, это слабые век на горбу тащат…
Луна бледнела, близился рассвет.
— Слышь, лейтенант, кинь ещё махры, хороший табак — слезу прошибает…
Харитон протыкал щетиной сизые кольца, на постели дрожали тени, и Арсению чудилось, что прапорщик раскачивается в дыму, как на волнах.
— Вместе с Филофеем нам много чего довелось… Он уже до ротного дослужился, но чуть что — лез под пули.
Упрямый был, бесстрашный и за своих — горой! Перед начальством, помню, кулаком в грудь стучит, красный…
И через слово приговаривает: «Не будь я Филофей Гридин!
» Однако ж и его жизнь пообломала… В южной стороне подцепил лихоманку, высох — не узнать! Хотели комиссовать, но вошли в положение — бродяга, ни кола, ни двора… Так и оставили до первого боя…
— А сёстры? — удивился Арсений. — Родная ж кровь…
— Сёстры давно замуж выскочили… А кому больной нужен?
Заглянув в окно, луна в последний раз осветила покойного, скользнула по застеклённому фото расстрелянного хозяина дома.
— Да, вот так живёшь, родню принимаешь у себя, а приходит день, понимаешь, с кем стол делил…
Звёзды поблекли, исчезая, терялись в бескрайних далях.
Арсений молчал, представляя отчаянного ротного, его родителей, вспоминал своих, приросших к сбережениям, болезням. «У них, видно, и любовь расчётлива, — думал он. — И ненависть…»
Но гнал эти мысли.
— А почему ты жену не заберёшь? — подбросил он в гаснущий разговор.
— Нет больше жены, — угрюмо проворчал прапорщик.
— Бабы все одинаковые: провожают — плачут, а ты за порог — на другого глядят… Вот ты, лейтенант, верно, смерти боишься… Не маши, не маши! И я раньше трусил… А сейчас — чего терять? Может, там лучше?..
Громыхая костылём, Харитон взобрался на подоконник, перегнувшись, сорвал яблоко и принялся грызть с мрачной сосредоточенностью.
— Везучий ты, лейтенант, домой поедешь, женишься…
А я куда — домой нельзя, калека… И всё из-за той ночи!
Арсения залила краска, ему стало неловко за своё безусое лицо, за невесту, лёгкое ранение.
— Однако не любишь ты шурина…
— А за что? — кусая губы, закричал прапорщик. — Жизнь мне сгубил и в смерть за собой тащит! А ведь я не старый ещё, не старый…
Двор уже пробудился — густо жужжали шмели, лаяла собака. По глухому мотору Арсений узнал машину, на которой привозили раненых — предстояло тесниться.
Дверь распахнулась без стука, будто райские врата.
— Ну что, подранки, выздоравливаем?
На лице санитара солнце смешивалось с улыбкой.
— Потихоньку, командир, — козырнул прапорщик, к которому вернулось прежнее ухарство. — У нас вот койка освободилась: ночью умер Филофей Гридин…
«Мой отец был разбойником. Он был толст и, когда римский легионер проткнул ему живот копьём, схватился за древко, чтобы всадить глубже — и достал убийцу клинком!
Читать дальше