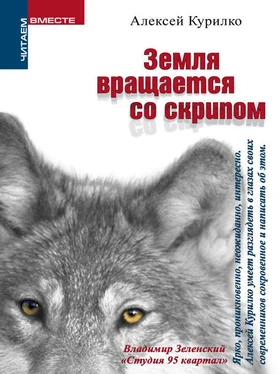(Прежде чем предоставить на ваш суд этот забытый шедевр, хочу дать коротенькое разъяснение: я учился в украинской школе, слово «самостийка» означает «самостіна (самостоятельная) робота»).
Юля влюбилась в Романа.
Это классно. Берусь доказать.
Ведь теперь она — как ни странно -
«самостийку» ему даст списать.
А Роман даст списать Наташе.
Он ведь по уши в Натку влюблен.
А Наташа списать даст Саше,
Саша — Нине, а уж Нинон,
даст, наверно, списать Лене,
потому что мы с ней друзья;
потому что Леня — хороший,
и его не любить нельзя.
И Леня напишет балладу,
и любовь будет он прославлять,
когда тройку увидит в тетради,
хотя Юля получит пять.
Это был оглушительный успех. Таких оваций не слышал ни один советский поэт того времени. Во всяком случае, в таком возрасте. Это было признание. Многие стали переписывать все, что я теперь выдавал. Я легко и молниеносно достиг широкой известности в узких кругах. Моей популярности в школе мог позавидовать любой классик.
Почти все девчонки из моего класса, а равно как из классов параллельных, были готовы влюбиться в меня. Но они не могли совместить благородный образ поэта с тем двоечником и хулиганом, каким я, собственно, и являлся.
Через некоторое время я стал получать от старшеклассников заказы на стихотворные признания в любви. Само собой установилась твердая такса. Стихотворение — рубль.
Я запомнил только одно:
Пусть небо усеяно звездами.
Оля, поверишь, не сплю.
Лишь шепчу, хотя время и позднее,
я люблю тебя, Оля. Люблю.
Кавалерам твоим я всем в лоб давал.
Опанасенко выбил окно.
Ведь любовь не проходит, я пробовал…
А тебе до сих пор все равно.
Что именно пробовал герой этого стихотворения, чтобы прошла любовь, — неизвестно.
Соль стиха была в том, что это акростих. Из заглавных букв каждой строчки складывалось имя или фамилия. В данном случае — Полякова.
Однажды меня даже подключали к идеологической работе.
Светлана Кравченко — ученица шестого класса — обменяла свой пионерский значок на пачку жевательной резинки.
Об этом узнали. Был страшный скандал. Меня попросили написать для школьной стенгазеты. Так сказать, пригвоздить к столбу позора.
На жвачку посмела сменять
значок пионерский. Изменница!
Корове приятней жевать,
чем быть пионером и ленинцем.
Глава шестая У каждого свои тараканы
Молодой режиссер Нестеренко — бывший клипмейкер. А теперь он поднялся — или опустился, не знаю — до телевизионных многосерийных фильмов, из разряда мыльных опер.
Я его работ не смотрел. Совсем. Ни до, ни после того, как снялся в одном из его сериалов. Название не помню — очередные сопли.
Сериалов снимают прорву. Порой кажется, что все население страны поделилось на две части: одна смотрит сериалы, другая их делает.
Качество этой модной продукции чрезвычайно низкое. Но, кажется, никого это не беспокоит.
Я играл скандального подвыпившего соседа снизу, которого затопили главные герои. Всего один съемочный день. Или как говорит Андрей Арестович: «Всего лишь минута позора».
Нестеренко, как выяснилось, имел дурацкую привычку говорить о себе в третьем лице.
К примеру: «Так, снято! На сегодня — все! Александр Нестеренко всех благодарит и прощается с вами до завтра!»
Я об этом не знал.
Прихожу на съемочную площадку: художник по костюмам одел меня и отправил к режиссеру на утверждение.
Кругом обычная подготовительная суета. Нервный творческий процесс.
Смотрю, стоит какой-то щуплый сутулый тинейджер, один, ничем не занят. Подхожу к нему.
— Слышь, — говорю, — не подскажешь, где режик? — Кто?
— Режиссер. Нестеренко.
— Он занят, — отвечает парень. — Беседует с актером.
— Где? — Тут. Я озираюсь по сторонам.
— Где — тут?
— Прямо тут.
— Не понял.
Он демонстративно закатывает глаза и раздраженно вздыхает.
— Александр Нестеренко, — говорит, — перед тобой!
Ё-мое, думаю. Это что? Претензия на оригинальность? Бздык? Чудачество на фоне мании величия? Странность художника? Последствия родовой травмы? Что? Зачем?
Я говорю:
— Меня костюмер послал. Утвердить вот эту вот тенниску и брюки. Еще он тюбетейку даст.
— Хорошо, — отвечает режиссер, не глядя на меня. — Передай Вите, режиссер одобрил. Без тюбетейки!
Читать дальше