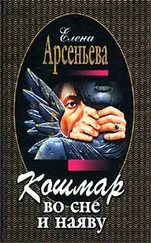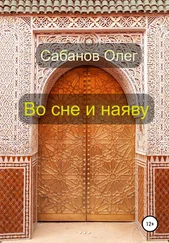Алексей Григорьевич с Валентиной Ивановной постояли недолго и отошли, вроде как навестить родных, похороненных тут же, и Андрей остался один. Он присел на корточки и погладил взрыхленную землю. ему показалось, что снизу, изнутри, идет тепло.
Комок подкатил к горлу, Андрей сглотнул его. На память пришли слова песни, которую пел Евангелист. Их страшный смысл только сейчас дошел до сознания Андрея. Он вздрогнул и ощутил в груди пугающую пустоту. Ему почудилось, что в самом деле зашевелилась земля и едва заметно качнулся крест…
Он испуганно вскочил на ноги и огляделся. Нет, ничего не произошло, не изменилось в окружающем его мире. Ветер, путаясь в ветвях, свистел, и гудели, протяжно и глухо, словно стонали, старые сосны, чьи корни, прорастая в глубь земли, чтобы набраться жизненных сил, тревожили там, в вечной темноте, прах когда-то живших на этой земле людей.
Далеко на станции пронзительно, высоко прогудел
паровоз, и Андрей снова вздрогнул…
* * *
Я легко прихожу к могиле матери, не испытывая никаких особенных ощущений. Грешно, наверно, говорить об этом, но это так — для меня ее могила только одна из многих могил.
А вообще я боюсь кладбищ. До сих пор не знаю, как я прожил — целых пять лет! — возле кладбища. Что там возле — через дорогу от его ворот, в каких-нибудь двадцати метрах от могил. Однако и это не все. Работал я в две смены, а путь на работу и с работы один — вдоль кладбищенской ограды. И вот неделю я по ночам ходил вдоль ограды с работы, неделю — из вечерней школы. Господи, чего мне стоили эти две сотни метров от железнодорожного переезда до дому!.. И не было рядом других домов — ни одного.
А первого покойника, как уже упоминал, я увидел 22 июня 1941 года.
Не ищу никаких аналогий и символов. Так случилось, что дед Македон — один из братьев моего родного деда Самсона — умер за два дня до начала войны.
22 июня его хоронили.
Он лежал в гробу в тесном флигеле, где они с бабой Лилей прожили всю жизнь, снимая «угол» (своего жилья никогда не имели), и гроб занимал почти все помещение, так что втиснуться туда можно было едва-едва двоим или троим.
— Иди, — подтолкнула меня мать, — поцелуй дедушку Македона.
Мои родители любили его.
Взрослые наклонялись над гробом, прощаясь, а мне пришлось привстать на цыпочки. Я ткнулся, скорее, носом, чем губами, в усы покойного. Они были ужасно колючие, а щека — холодная.
Мне часто снятся покойники. Кажется, снились все, кого я видел мертвым, но дед Македон — никогда. С приближением собственной смерти начинаешь понимать, что с умершими надо прощаться. Это ведь правда, что смерть — продолжение жизни. Не бытия, нет, но именно жизни…
* * *
— Ну что, паря, поговорил с матерью? — спросил Алексей Григорьевич, осторожно трогая Андрея за плечо.
А у него в глазах стоял туман, и он никак не мог разобрать буквы, неровно выведенные черной краской на простой белой жестянке:
Е. С. Воронцова
1907–1944
Мир праху твоему
— Отзаботилась, Господи, прости, — молвила Валентина Ивановна и перекрестила могилу. — Мало пожила, сердешная, на белом-то свете. Судьба такая вышла.
— Прощайся, да пойдем, а то вон дождик собирается — сказал Алексей Григорьевич. — Как бы не застал по дороге. А за могилку не волнуйся, сохраним в порядке.
— Пойдемте, — кивнул Андрей, — Я попрощался.
Когда свернули на другую дорожку, к выходу с кладбища, он оглянулся и среди янтарных стволов увидел белый крест.
— Навещать-то мать надо, — произнес Алексеи Григорьевич. Не было в голосе его ничуть осуждения, но был какой-то скрытый смысл, была какая-то недоговоренность.
Андрей хотел сказать, что теперь будет часто приезжать, однако вздохнул только, понимая, что, быть может, никогда больше не приедет сюда и, значит, не придет на могилу матери.
— Покойники-то любят, когда к ним приходят, — проговорила Валентина Ивановна. — Им тогда лежится спокойнее. А так-то, когда одни да одни, неспокойно им, все думают, как мы тут без них живем, все ли ладно у нас…
— Хватит тебе, Валентина, — возразил Алексей Григорьевич. — Ничего они не могут думать, потому как и есть покойники. А навещать надо, от веку так заведено.
— Кто там знает, думают или не думают. Мы-то с тобой не были там, где они.
— Будем.
— На то воля Божья.
— Это что же получается, что мать его, — Алексей Григорьевич показал на Андрея, — по воле Божьей сорока годов не прожила? Тут, Валентина, другая воля. Воля, да не вольная.
Читать дальше