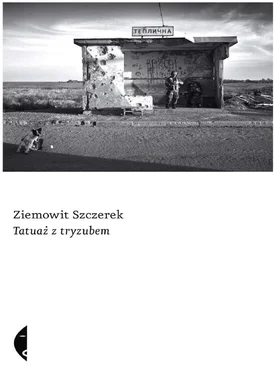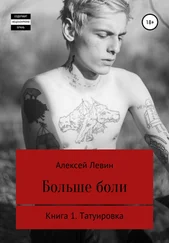***
Но ведь, тащась в сторону этого ёбаного Запада, о котором мне уже не хочется ни думать, ни писать, а что мне остается, блин делать, так вот, тащась в его направлении, разместив там свою точку отсчета, мы обрекли себя на вечное сравнение, на вечный комплекс, на вечные поиски "Парижей востока" и "Римов севера". Ну да, сейчас-то уже можно чуточку попустить. Сконцентрироваться на поисках своей сути; но тогда, после упадка одного мира и перед рождением другого, в том постапокалипсисе, за что-то нужно было хвататься. И меня совершенно не удивляло, что Андрухович выдумывает для себя ту более изысканную украинскость, чем чуществовала на самом деле, даже если изысканность эту он представлял довольно-таки топорно. Так что ж поделать, именно такими были тогда воображения.
И меня вовсе не удивляло, что он сидит на этих своих стипендиях, в этих своих Берлинах и Штатах, что пишет об Италии, что занимается Германиями, что в его стихотворениях полно заклинаний, призывающих мир Запада, как " escudo ", " calle — aqua minerale " или " Dragon River "; что его Стах Перфецкий в Перверсии , сидя на венецианском островке, оказывается наиболее утонченным знатоком классики европейской музыки, и что в эту классику он вкомпоновывает украинские мелодии; что в конце книг Андруховича всегда написано, где они рождались, и там имеются имена местностей Германии, Швейцарии или чего там еще. Что в Тайне , расширенном интервью, взятом у самого себя, своим альтер эго он сделал немца. И назвал его Эгоном Альтом.
Все это
меня
совершенно
не
удивляло.
Совершенно.
***
Впрочем, не один только Андрухович искал для Украины более утонченной формы. В заведении, где я пил кофе, кто-то нарисовал на стене Ивано-Франковск еще тех времен, когда он назывался Станиславов. Или же, по-немецки, Станислау. Или же, по-украински, Станиславив. Как кому нравится. Широкий проспект, дома. Изображение было перерисовано с какой-то почтовой открытки и выглядело довольно отчаянным. Как если бы кто-то, не умея того, начал вызывать духов. Как если бы практиковал культ прошлого, рисуя на стене его изображения и рассчитывая на его повторное пришествие. На парузию [90]прошлого. Из динамиков звучало дешевое диско, не помню даже, то ли русскоязычное, то ли украинское. Кофе подали действительно хороший, только вся эта стилизация "под Вену" тоже была слишком уж отчаянной. С этими чашечками, с этими малюсенькими пироженками, с этим кланяющимся официантом и выгнутыми в Ą и Ę [91]спинками стульев. Все это было культом карго [92]и призывом духов. А на улице булыжники мостовой призывали человека к реальности, рекламы призывали, витрины тоже призывали — все призывало. Я вышел из кафе. По булыжной мостовой шла дамочка с собачкой, которая не лаяла, а хрюкала словно поросенок.
Спрошу обо всем этом у Андруховича, размышлял я в отчаянии.
Пусть мне скажет.
Пусть скажет, как он со всем этим справляется.
***
Так вот, на Андруховиче были красные штаны, на плече — рюкзак, и был он очень мил. От него в подарок я получил книги, так что мне было очень даже приятно. Я не кадил перед ним ладан, что, мол, "о яаа, вы мой любимый писатель, о яааа, у меня имеются все ваши книжки", поскольку тогда он чувствовал бы себя глупо, а мне не хотелось ставить его в подобную ситуацию. Мы походили по Франковску, немного пообнюхивались. Вот как-то не слишком, честно говоря, он, по-моему, этому Франковску соответствовал, это я Андруховича имею в виду. Положа руку на сердце — не сильно. Как-то так — нет. Я глядел на него и думал про Эгона Альта, про его выдуманное жилище в берлинском Кройцберге или Пренцлауэр Берге. Не помню, где тот его Эгон Альт проживал. Думал я о Карле-Йозефе Цумбруннене из Двенадцати обручей . О немецком муже Ады Цитрины из Перверсии , который вез украинских героев Андруховича через Баварию на своем лоснящемся автомобиле.
Мы немного поболтали о том, о сем, потом пошли в небольшую пивную.
— Пан Юрий, — задал я вопрос, — и как вы справляетесь? Со всем этим.
— С чем? — спросил он, а я ему сказал: об этой бесформенности, об этом кипящем отсутствии порядка, который, словно капельница, напитывает в вены вечное беспокойство и чувство угрозы, исходящее откуда-то, ну да, нечего тут притворяться: из антимира, антизапада. То есть — поскольку именно так все раскладывается в восточноевропейских страхах — с востока. О той неумелости и невозможности, которая все время напоминает нам, что мы так сильно хотели, а оно вот как-то, блин, не выходит, из-за чего бытие так сильно нас грузит. О том, как встаешь утром, вздыхаешь и говоришь: "бли-и-и-ин", потому что за тяжелыми шторами нас ждет не солнечное сияние, а еще более тяжелый день.
Читать дальше