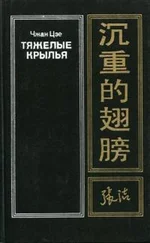— Разве ты не хотела, чтобы я читал свои книги? Вот я и читал их дома.
— Дурачок! А почему не здесь? Ночью вчера я приходила глянуть на тебя через щелку в двери. — Она рассмеялась.
В ней не было и тени желания подразнить меня — ничего, кроме безграничной искренности ребенка. Мне стало стыдно собственных мыслей, и я густо покраснел. Наука и книги приучили меня делить людей на определенные типы, скажем, в психическом отношении — на флегматиков, холериков, сангвиников и прочее; в художественной литературе представлено бесконечное разнообразие серьезных и легкомысленных, распущенных и суровых... но нынче я понял, что в мире не существует раз и навсегда установившихся характеристик, разве что Марксова классовая принадлежность... Вот и Мимоза — живой человек, то серьезна, то весела и легкомысленна, то строга и сурова. В прошлый раз от ее суровости я чуть было руки на себя не наложил. Понять явление вовсе не то же, что понять человека. Одним только разумом человека не постигнешь, тут требуется чувство...
Пока я поглощал кашу, она взяла с лежанки новенькое байковое одеяло и объяснила, что его специально по ее просьбе купили в Чжэннаньпу (больше семи юаней стоит!) — из него выйдут отличные теплые штаны для меня, а из остатков — брючки и куртка для Эршэ. Любовно похлопала по одеялу и сказала:
— Будем, как городские, в теплой одежке из хлопка!
Она толковала мне, что здешние носят только грубошерстные вещи. Из овечьей шерсти да на простом костяном веретене пряжу прядут, потом вяжут безо всякого кроя, вроде мешка. Грубая овечья шерсть ужасно колется. Я представил, как страдает ее нежная кожа от жестких шерстинок, и снова покраснел... В душе моей мешались жалость и сочувствие: одежда из хлопка кажется ей верхом роскоши — такую ведь городские носят! А что бы она сказала о вещах из настоящей тонкой шерсти! Боюсь, в свои двадцать лет она ничего похожего и не видела, она, такая прекрасная, такая добрая. А уж мое обеспеченное детство для нее и вовсе непредставимо...
Она встряхнула одеяло. Это было одно из тех серых с красными полосами бумазейных одеял, что громоздились кипой в магазинчике в Чжэннаньпу. Принялась мерить его ладонью, что-то бормоча — верно, считала. Лампа освещала ее ресницы, похожие на птичьи крылья, ясные глаза, льющие загадочный, согревающий душу свет. А ведь и шерстяной одежды не носила, и хлопок за роскошь почитает! Примирить мои прежние представления о красоте с бесспорной ее красотой — это как мирт пересадить сюда, в ледяную безводную пустыню.
Покончив с едой, я вспомнил о Хай Сиси.
— Я слышал, Хай Сиси отгул взял и отправился в город.
— Да кто его ждет-то! — Она продолжала усердно вычислять и даже головы не подняла.— Пусть себе идет куда хочет!
Как просто все! Видно, зря я так мучился два минувших дня. И на жизнь, и на людей у нее пусть и грубоватый, но вполне естественный взгляд. Так степной ветер дует туда, куда дует, и ему не прикажешь дуть во все стороны понемногу.
Конечно, подход интеллигента тоньше, деликатней, но как примиришь его с бурным движением истории? Сколько раз потом, спустя годы, я с благодарностью вспоминал, как незаметно влияла она на меня, как обретал мой характер цельность степного ветра.
29
Теперь всякий вечер после казенного ужина я отправлялся к Мимозе с томом «Капитала» — то-то Начальник оставался доволен. Она снимала со стены масляную лампу и прилаживала ее на консервную банку на столе, приговаривая: «Лампа повыше — свету побольше!» В комнате и в самом деле становилось светлее.
Эршэ была послушным ребенком и почти не шалила, разве что пристанет к матери, чтобы та спела. Мимоза никогда не интересовалась, что за книгу я читаю и зачем, не заговаривала со мною и о том вечере, когда, освободившись от моих объятий, произнесла:
«Лучше уж книжки читай!» Только чувство подсказывало ей, что чтение — благое занятие, вполне достойное мужчины; ум ее не в силах был этого постичь. Мои давние наставники-философы думали несколько иначе...
— Мой дед тоже читал, — сказала она.— Все сидел с книгой вроде тебя, да и книга была похожа — толстенная, старая-престарая.
Спустя время промолвила:
— Вот у Сиси такой товар не в цене, уж он-то книг не читает. Ему бы только по свету мотаться. Я и не жду его!
Вот оно, оказывается, как! Я проник в тайну: его она «не ждет», стало быть, «ждет» меня. А дедовская книга, судя по ее описанию, — что-то из вероучительной классики. Между тем у самой Мимозы — ровно никакого понятия о вере, да и откуда у такого живого, открытого человека, к тому же битого-перебитого жизнью, взяться какой- то мистике!
Читать дальше

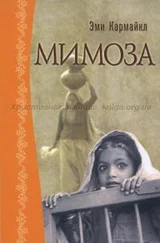



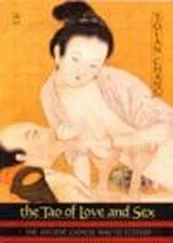

![Чжан Юэжань - Кокон [litres]](/books/385674/chzhan-yuezhan-kokon-litres-thumb.webp)