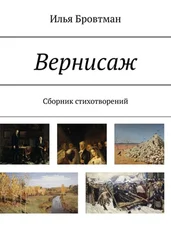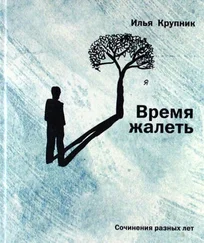Затем. Если речь о краткости непосредственного изображения, то это требует очень точного слова. Что это значит? Единственно верное, точное, « простое» слово должно так охарактеризовать предмет, к примеру, что он становится иллюзорно виденбез дополнительных эпитетов. И одновременно в этом точном слове должно быть ощутимо внутреннее состояние персонажа. Описание предмета, детали – внешне, словно бы мимоходное, только для «атмосферы» (вспомним карту Африки у Чехова), всегда внутреннее, незаметно необходимодля ощущения «тока души» героя. Важно только, чтобы это было внешне незаметно, а в общем это и создает в совокупности живую, зримую, а то и с запахами иной раз, со всеми звуками картину происходящего, не «литературную» подлинность.
Вообще-то, одно точное слово взыскует следующего точного слова (так и движется, возникает целое предложение – поэтический, в сущности, способ письма). Это важно потому, что зримость, возникшая благодаря точности, интуитивно дает подлинное следующееживое движение персонажа и поворота – естественного– сцены и т. д. Иначе – без этой точности изображения – все движется просто авторской волей, чисто умственно, умозрительно, все становится картонным, сделанным.
Известная истина, чтобы принять, понятьхудожественное сочинение, надо принять«закон самим себе автором данный». В искусстве – литературе, музыке, живописи и т. д. и т. д. – множество «градаций». Но по-настоящему понять: надо войти внутрь, самому слиться с автором. Критик обычно стоит рядом и разбирает проблемы, героев, психологию, построение, даже стиль. Но он стоит рядом, автор(речь о настоящем искусстве) все равно «выше». Не художник, он не вровеньс художником.
Для того чтобы «слиться», надо войти в интонацию, опять-таки, опять-таки, в ритм, и тогда невольно понесет за собой авторскоетечение чувств, особенностей, любовь его, или скрытая ненависть, или насмешка, сарказм. Ты сам уже двойник автора, переживаешь все, как он сам, ты уже сам автор. Только так можно понять и сложную историю, которую пишешь. И даже не очень сложную. Как легко входишь, например, в «Петербургские повести» Гоголя, певучая (южная, отдаленно украинская) ткань прозы завораживает, ты в ней, повторяю, тебя несет течение – «Невского проспекта». Не просто потому, чт отам «разбирается», как выглядит проспект в разное время и какие там разные люди. А какэто написано.
Главное, о чем уже шла речь: подлинное перевоплощение, если читаешь настоящее сочинение большого художника. Войтив его стиль и потому понять по-настоящему, «как это у него получилось». То есть не литературоведческое внешнее: сюжет, характеры, психология, даже различия и схожести манеры и пр., «откуда он идет» – от Пушкина – Лермонтов или «новый» Гоголь явился – Достоевский и т. д. и т. д.
Вот, к примеру. Два годадо «Героя нашего времени» были путевые запискиПушкина (сам их так называет) «Путешествие в Арзрум». Тогда как «Бэла», «Максим Максимыч» и др. – это художественные шедевры (а эпизод, казалось бы, «Тамань». Чехов говорил: вот как надо писать).
Основное: отчего вдруг произошел у того же Лермонтова скачокот скучнейшей «Княгини Лиговской» к шедеврам «Героя нашего времени». Это отнюдь не «продолжение», развитие и т. д. «Простое» движение художника. Не простое.
Понял, наконец, загадку ранней своей, нашей юности: подражание мальчишек (и девчонок, оказывается, некоторых?!) – Печорину. В чем тут секрет (ведь несимпатичный, вроде низкий, казалось бы, в своих поступках – «Княжна Мэри» – герой)? А как нравился.
О стиле. В. Э. писал: «Колебания и поиски кончились. Прочел „Путешествие в Арзрум“ в „Современнике“ 1836 г. и увидел настоящее решение стилевых проблем (через два года увидел!). Как гениальный ученик, а не просто подражатель, Лермонтов…» и т. д.
Но ведь пушкинское «Путешествие», повторяю, путевые записки. У Пушкина прежде всего: другой жанр, нежели «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань». Почти все части «Героя нашего времени» – рассказы (оставляя пока в стороне центральную «Княжна Мэри» – « Дневник Печорина»).
Как произошел скачок?В раннем «Вадиме» (незаконченном) подражание Виктору Гюго («Собор Парижской Богоматери» – романтическая вещь. Ведь Лермонтов не Пушкин – Лермонтов байроновского типа романтик) «плюс» пушкинское (о Пугачеве и романтическом, совсем другого вида, разбойнике Дубровском).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Илья Крупник Струна [сборник] обложка книги](/books/26753/ilya-krupnik-struna-sbornik-cover.webp)


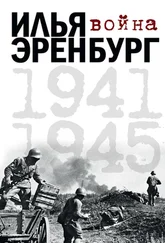

![Илья Бояшов - Портулан [сборник]](/books/427808/ilya-boyashov-portulan-sbornik-thumb.webp)
![Илья Крупник - Осторожно — люди. Из произведений 1957–2017 годов [сборник]](/books/429088/ilya-krupnik-ostorozhno-lyudi-iz-proizvedenij-195-thumb.webp)