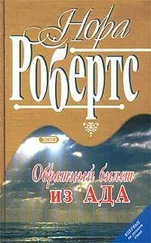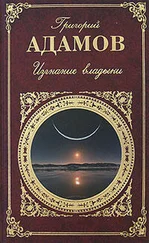— Дедушка, пожалуйста, расскажи мне, как все было тогда, при нацистах.
Дед с удивлением посмотрел на Виктора — словно по волшебству, мешки у него под глазами вдруг увеличились впятеро, — потом отодвинул стул немного назад, поставил его боком, так что смотрел теперь мимо Виктора, на бабушку, и сказал:
— Кстати, Долли, знаешь, кого я встретил сегодня утром в кафе «Монополь»?
Виктор спрашивал снова и снова, в конце концов возник ритуал под стать колоколам по радио.
— Пожалуйста, дедушка, расскажи, как вам тогда удалось бежать, как вы сумели уцелеть?
Дед отодвигал стул, ставил его боком, смотрел мимо Виктора на бабушку, клал ногу на ногу.
— Кстати, Долли, знаешь, кого я, к моему несказанному удивлению, встретил сегодня в кафе «Шперль»?
— Дедушка, пожалуйста, ты должен мне рассказать. Как тогда было? Господин Кох рассказывал мне, что тебе пришлось зубной щеткой… тротуар…
— Долли, ты не поверишь! — Дед отодвинул стул, поставил его боком, положил ногу на ногу, стрелки на брюках мастерски отутюжены. — Знаешь, кого я встретил сегодня в кафе «Прюкль»?
Так унизительно — не получать ответа. В конце концов Виктор уразумел, что для деда с бабушкой, наверно, унизительно снова и снова слышать вопросы, напоминавшие о тех временах, для которых у них, очевидно, нет слов. И перестал спрашивать. И никогда ничего не узнает. Во всяком случае, от них самих.
Все реже Виктор шагал по Рингу к пристани и через мост Аугартенбрюкке в Леопольдштадт. Дед с бабушкой оцепенели в ритуалах и фразах. Дед, выйдя на пенсию, продолжал обходы кофеен, но так недовольно, ворчливо и нетерпеливо, что некогда любимый универсальный завсегдатай всех венских кафе вдруг утратил всю свою популярность. Ему больше не радовались ни за бриджем в «Монополе», ни за бильярдом в «Шперле». И даже в «Прюкле», если он всего лишь хотел почитать газету, могло случиться, что «Винер курир» аккурат на руках, и по этому поводу он мог закатить сцену, какой от по-какански элегантного старого господина никто не ожидал. Трехминутное ожидание он воспринимал как непозволительную маленькую вечность. Пенсионер в постоянном цейтноте. На условленные встречи он приходил на полчаса, а то и на час раньше и, когда — разумеется, вовремя — приходили остальные, уже так уставал от ожидания, что сразу отправлялся домой. Наблюдая за карточной партией, регулярно выдавал карты игрока, которому нетерпеливо заглядывал через плечо и нетерпеливо призывал разыграть наконец ту или иную карту. С трамвая спрыгивал на ходу, потому что место его назначения находилось между остановками, далеко от обеих, а при этом прохожие служили ему вместо страховочной сетки. Мало того, он считал себя вправе выругать тех, кого едва не сбил с ног, за «нехватку уважения». Бабушку Долли дед доводил до белого каления, когда шел с ней в кино, однако уже после рекламы и киножурналов вскакивал и выбирался вон, так как все это его не интересовало. Если он требовал в кафе счет и официант сию же минуту не вырастал возле столика, а спешил мимо, дед угощал его тростью по заду и с крайним раздражением повторял: «Счет!» Никто не находил это остроумным и не желал принимать как обыкновенные стариковские причуды, и дед чувствовал, что встречают его теперь сдержанно, едва ли не враждебно. Правда, объяснял он все это не тем, что изменились его поведение и манеры, а тем, что потерял свое «положение»: он был уже не представителем фирмы «Арабия-Каффе», а жалким пенсионером, ненужным старьем, и ему-де давали это понять. Ему казалось, вся его жизнь растерта и перемолота в мелкий песок, который стремительно сыпался в слишком широкое горлышко песочных часов. Вернувшись домой после обхода кофеен, он, измученный сутолокой дня, садился в ушастое кресло, закуривал сигарету — «Мильде сорте», которую он звал «трава», ведь любимую «Мелоди» сняли с производства, — и говорил: «I'm old, tired and miserable!» [44] Я старый, усталый и жалкий! (англ.).
Кофейни теперь совсем не те, что раньше. Кофе у них — отвратительная водянистая бурда, больше похожая на тепловатую кока-колу. А табак? Сперва оставили его без «Нила», а теперь вот, как гром среди ясного неба, еще и без «Мелоди». Метрдотели бесследно исчезали, на пенсию уходили, как и он. А их преемники имели о культуре кофеен «примерно такое же представление, как Папа Римский о браке». Старых друзей он считал вероломными. Даже старик Нойман носа не кажет. «Так он же умер, в прошлом году!» Судя по выражению лица, дед воспринял это как дешевую отговорку. «I'm old, tired and miserable!» Кафе «Разумовски» вдруг закрыли, сказал он, качая головой, «как гром среди ясного неба!».
Читать дальше