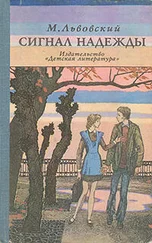- Нет, я только праправнуков его видел, Рыжку, Пирата, Чернульку, а теперь вот и сами мы вошли с ними в родство.
— Ну, вы знаете, это был замечательный ученый, умница и вообще интереснейший человек. В одной из своих бесед с молодыми учеными во время знаменитых павловских сред Иван Петрович затронул и такую тему. Он сказал: представьте, что в семье умер ребенок. Вот приходит домой муж первого типа и видит, что жена сидит в развале и хаосе перед портретом ребенка. Обеда нет, ничего не убрано. Тогда он садится рядом с ней, и вместе они предаются неутешному горю. Это, говорит Павлов, хороший человек, но плохой муж. Второй тип является домой и застает ту же картину. Но не садится рядом с женой, а уходит на кухню и там молча выражает свое недовольство. Это деликатный человек и лучший муж, чем первый. Но вот приходит третий тип, видит ту же картину и с места в карьер начинает на чем свет ругать жену. Тут Павлов позволил себе ряд очень сильных выражений. — Тут Короленко тоже позволил себе улыбнуться. — Но смысл их был таков: ах, ты, такая сякая-разэтакая, жрать нечего, пить нечего, грязь, а ты тут…
Здесь хозяин (глаза его уже тысячеватно сверкали, щеки оделись праздничным кумачом, наэлектризованные прекрасные волосы вздыбились львиной гривой) осмотрелся и… никакой грязи не обнаружил. Ведь у них не было горя, а обед, я надеюсь, все-таки был. И я понял, чего не хватает этому четвертому типу: аудитории. Своим-то он уже давным-давно надоел, а жена, как и все жены, может, и готова была бы послушать мужа, но с одним лишь условием — чтобы это был чужой, чей-то. Да и то лет тридцать назад.
— Этот, третий супруг, делает заключение Иван Петрович, грубый, плохой человек, но как муж — лучше всех. Ибо!.. — понес на меня указующий перст, — пускай в хамской форме, но все-таки вырывает жену из бесцельного созерцания своего горя, пробуждает к жизни. — Отдышался, слегка опустил мощные плечи, выдохнул, положив мне в ротик: — Вот, а вы говорите — горе.
Нет, ничего не сказал ему: все-таки день рождения. И вообще в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А теперь говорю, потому что никогда не услышишь: ты — Жорж Санд, ты из тех, что идут по трупам, ты из тех, что живут одним днем. Ты из тех, кто отказывается от себя, от вчерашнего, во имя сегодняшнего, а завтра… И так далее, до того прискорбного часа, когда самое драгоценное, но, увы, бренное, наконец-то откажется от тебя. Ты из тех, кто всегда предает других, чтобы тут же предать самого себя. Но в неощутимом этом предательстве твоя сила, твоя сладость и счастье.
Павлов прав? Безусловно. Для таких, как ты. Но и он понимал, что не все в этой жизни физиология. Что над всем этим есть и нечто другое. И любить тебя, доченька, покуда мы живы, будем. А порядок, обеды и прочее — что ж, приди, погляди. И без Павлова в самые трудные дни, как влегала Тамара в уборку, в стирку, в писанину — неосознанно, по врожденной крестьянской потребности. А теперь наука дозналась: чтобы сжечь в работе лишний губительный адреналин. "Минуя могилы, вперед!" — восклицал Гете. Что ж, и я шел. После тех, что ушли, дорогих, любимых. Помнил их, в сердце берег, но жил, как вы, сильные. Но когда случилось с тобой — остановилось во мне. На время. Что ж, один "убивается" по любимой, другая по возлюбленному, третий — по другу, но не все ли равно, каждый для себя находит свое. Вернее, это его находит. И неважно, кого ты так любишь — женщину, мужа, справедливость, идею, гуманность, даже собаку. Сартр смеется: "На собачьем кладбище я увидел такую эпитафию: "О, Джек, ты бы не пережил меня, а я живу"". Но чего же смеяться? Может, у этой женщины никого не было во всю жизнь. Может, у подобных себе не видела она и крупицы той верности, что жила в незабвенном Джеке). Не смешнее ли то, что мы можем над этим смеяться. Ведь сказал же, тоскуя, гватемальский поэт: "Собака, хочешь, я буду твоею собакой?" Но тот, кто никогда никого не любил больше жизни, сильнее себя — кто он? Кем проходит по свету? И зачем? Он — человек, и благо ему, ибо в этом-то, видно, и есть промысел божий.
А травы она не дала.
И услышав об этом, помрачнела Тамара: "Там пропуск тебе, — но когда я вошел: — А вот и па-апа!.. — улыбаясь спешила ко мне. — Я все споила. Не много? Я попробовала. Ничего, никак. Как вода. Ох, если бы… ну, иди, иди…"
Ты лежала, согнув ноги в коленях, а в лощине, на животе, угнездился и тихо похрипывал что-то "Альпинист". Одутловатой водянистой синевой затягивало глаз, щеку, а т о… ваткой заткнуто, весь нос. Тогда, в первые больничные дни, росло бешено, казалось, разорвет все. Сейчас хуже, гораздо, но ноздрю не так тянет. В небо уходит? К глазу? "Папа, а я жую шишку… уот… уот…" С ужасом глядел на тебя, доченька. Это значит уже нижние зубы прихватывают ее. Это значит… Тамара меня жалеет. "Папочка, доченька тебе вот еще что подарить хочет", - показала на подоконник, где три клееные бумажные птички (или курицы?) клевали крашеную дощечку. "Я еще тебе сделаю, папа. А куда ты поставишь их?" — "На стол. Пшена им насыплю". — "Хм, пшена, а, может, они хотят рису? У нас рис есть? И греча?" Единственная каша, которую ты не жаловала. "Папа, свари мне гречневой каши…" — проговорила задумчиво.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу