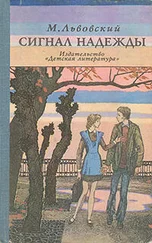— Ну, все в порядке!.. — запыхавшись, влетает Лина-победительница.
— Спасибо, большое спасибо… Как же вам удалось?
— Пустяки… — великодушно отмахивается.
Это верно, для нее не только такое пустяки. Значит, год. Господи, добраться б до полугода, а там…
А там, на Березовой аллее, где филиал онкоинститута, достаю твое стеклышко, которое выпросил у Калининой. "Напрасно, Альсан-Михалыч, напрасно, я понимаю ваши сомнения, это, разумеется, ваше право, но, поверьте мне, мы очень долго все это обсуждали. Была такая большая застолица, и пришли к заключению, что это симпатобластома". Доброкачественная, да? — глядел, но смолчал: прозвучит упреком, а как я могу? Что ей стоило затоптать нас в первый же день — им ведь сразу, еще у стола, ясно стало. Пожалели нас, думали: авось, пронесет. А нет — все равно ничем не поможешь.
Соколовский: очень круглый, очень очкастый. Лицо — простодушный, бледно пропеченный блин, лоб безбрежно теряется в куполе темени. Острые, близоруко выпяченные глаза плавают за дюймовыми стеклами, как рыбы-меченосцы в аквариуме. Просит оставить стекло в лаборатории и зайти за ответом дня через два.
В лаборатории трудятся женщины. Трудятся над ржаными крошками, будто выщипнутыми из буханки хлеба. Что сулит хозяину эта нива? Что — отчетливо вижу в журнале: не латинский СА ставят там, но простое, добротное русское: РАК. И столбцами, сплошь по страницам громоздятся они в небоскребы: рак, рак, рак, рак… полип… Надо же, один вытянул.
"Как фамилия?" — останавливает свое перо регистраторша. "Лобанова". — "Это не вы? — подняла свежее зефировое лицо. — Имя?" — "Валерия". - и думаю, сжавшись: сейчас, сейчас ты снова посмотришь! — "Отчество?" "Александровна", — и опять: сейчас, Сейчас… "Возраст?" — "Семь". — "Что?.." — вскинув на миг, опустила голову, покачала со вздохом.
И вот выдают. Под писарским гладеньким почерком нацарапано враскорячку: "Картина симпатобластомы". Небо, Вазари и вы, остальные, скажите мне, что значит картина ? Вот он он, этот самый лучший, ни в чем не уверен?
"Я смотрел… — отдуваясь, откидывается этот человек, такой мягкий, округло любезный, человек, который и мухи, поди, ненароком не придушил, не изломал руганью губ — он решает за тысячи гамлетов: быть им или не быть. — Почему картина?.. — взял со стола пачку дешевых сигарет, задымил. — Видите ли, в строении клеток существенной разницы нет. Все эти нервные опухоли плохи тем, что трудно поддаются лечению. И рентгену, и химии. Но… — видимо, все же что-то заметил на лице собеседника, — если радикально, тогда можно надеяться…"
На свидание я мог опоздать, на дежурство, но к тебе никогда. Но не самый первый я был — по морозной ноябрьской рани являлся сюда невысокий, худой гражданин. Уже тронутый — осторожно — сединами. И кожан на нем старый, черный, тоже с продресью. Кепка плоская, нос рулем, а глазницы глубокие, как воронки с осенней водой — налиты темной печалью. Из краев дальних, благословенных гражданин этот был. Как взойду на лестницу, где напротив раздевалки дежурят три стреноженных стула — так далекий гость этот непременно привстанет, вежливо потеснится, чтоб и мне и портфелю моему выкроить место. А чего там выкраивать, места всем хватит, даже тем, что не думают где-то в это утро ни о чем таком скучном. Не охочи мы с мамой до досужих родительских пересудов: хвастать нечем, а чужое возьмешь — и свое отдай. Потому молчим. Правда, видел: так, за малой нуждой, из Грузии не потянешься. Ну да Бог с ним, у него свое, у нас тоже в коробочке что-то взбрякивает. День молчал, два молчал, но здороваться начали — как британские пэры, кивком лордовым. "У вас кто здэсь? — однажды осторожно придвинулся, покачал головой. — У меня син. — И смолк на минуту: одно горе, одногорцы мы. — Читырнацать льет". — "Что с ним?" — уже лез я. "Ни знаю… — вздохнул, — опухаль, гаварят. Сухуме лежали… гаварят, Ленинград везите, может, там что зделают. А так кровь харошая. Ринген делать будут".
Значит, тоже к Динсту: "Поди ко мне в ступу, я тебя пестом приглажу". Выглянула его жена, вышла на лестницу, опасливо обернулась, поздоровалась. Невысокая, полноватая, глаза добрые, даже страдание в них заглажено ласковым светом: "Ничего сегодня, паел… немножка, улибнулся…" — и сама озарилась. Какая же деликатная — вот, по-русски при мне. И теперь, когда и чужому все ясно, начала по-своему, быстро, сурово.
— Папа!.. — рожица моя вдруг сама меж клеенчатых створок выглянула, темноглазая, бледная. — Папа, я гулять…Папа, а знаешь, я здесь уроки делала. — Откинула со лба волосы, важным кивком подтвердила. — И русский, и арифметику. Мне учительница две четверки поставила. Папа, к собачкам!..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу