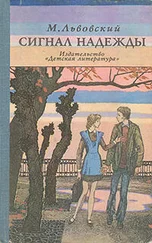Он стоит, отступя от шоссе, Институт этот, с завитушками полукруглых подъездов, так что человеку есть время подумать, пока не толкнет он (быть может, последний раз) эти двери. Вестибюль скромный, рациональный, как этот недуг. Вешалки, гардеробщики, которые могут даже пальто вам вернуть, но понадобится ли, товарищ? Это я так тягуче, паскудно смотрю, а Лина: пальто с плеч, клевок в зеркало, кивок мне и взлетает в лифте наверх. Нет ее, что-то долго для Лины. Но вот: "Ну, слушай!.." С секретаршей договорилась ("Очень приятная девушка"), с заместителем побеседовала ("Очень знающий дядька") и еще с несколькими. Все единодушны, как в нашем народном парламенте: говорить надо только с Шефом, и Он — примет. Я когда-то читал две-три лактионовских статьи (непременно в "Правде"), сокрушающие всесильный недуг, и теперь старался представить его вживе да въяве. Очень редко имя и человек совпадают, не двоятся. Почти всегда человек меньше своего знаменитого имени. Особенно это чувствуется в писателях. Настоящий писатель всегда меньше, обыденнее своих книг, плохой — умнее, значительнее.
— Так зачем вы пришли ко мне? — выслушав, живо передислоцировался в кожаном кресле седой, старчески одеревяневший, но даже в этой негибкости все еще моторный, таранящий академик. — Я занимаюсь разработкой новых препаратов… — оскорбленно встопорщил стальные усы. — Вам надо обратиться к химиотерапевту. Есть у нас в институте очень знающий человек — Карахан Александр Иванович. И потом к клиницистам. В Морозовскую больницу, к Льву Адамовичу Жирнову.
Коридоры, дверь: "Вот он, большелобый, тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга — "Вся земля" — выискивает имя — воскресить кого б?" Лицо его изморщинилось возле умных усталых глаз. И опять я свое: симпатобластома, доброкачественная. Смотрит. Как-то: "Нет, эндоксан в таблетках ничего не дает. Вы говорите, что радикально. Зачем же травить ребенка? Это же сильный яд. Рентген? Не знаю, это не моя епархия". — "Но, профессор, скажите по-человечески: что бы лично вы делали?"
— Лично? Никогда не переходите на личности, потому что лично все мы хотим передоверить это другим.
— Лично я?.. — горько усмехнулся. — Ничего… — тихо вложил, глядя в упор. И пророкотал умудренно и грустно: — Положитесь на волю Божию.
— Но может же рецидив?
— Может. А может, и не будет.
— Спасибо… большое спасибо… коридор, длинный, пустой. Что же делать?..
— Сашуня, так что? — разбудили меня.
— Тебе надо ехать домой. Спасибо за все.
— Сашка, давай к этому… ну, в Морозовскую, а?..
Одного я хочу — закурить, да нельзя: в ожидании гистологии дал обет — если доброкачественная, бросаю. Да, нельзя, а вот искать "Клинику № 3" можно. В этом детском городке. Старинное двухэтажное здание из красного кирпича. В крохотном вестибюльчике сидя, стоя, жмется человек шесть, ждут чего-то. Растерянно останавливаюсь, но привычным решительным кивком Лина тащит меня мимо всех в дверь. Не успеваем войти, а она уже знает, что Лев Адамович здесь, только что закончил операцию, и леопардовое пальто ее уже по-хозяйски вытянулось на служебной вешалке-стойке. "Пошли!.. — глянув в зеркало и подправив прическу. Но мне страшно, мне бы лучше отпятиться туда, на крыльцо. — Хорошо, хорошо, миленький…" - и уходит. А я выхожу на крыльцо.
Начинался день серенько, а сейчас небо нежное, акварельное. Уже насорило листьев на траву, на залатанные гудроновые дорожки. Но еще там, наверху, весело дрожат зеленые, желтые, бурые, красноватые. Вечные. Отчего ж вечные? Ведь им умирать, этим. Это нам они кажутся вечными, потому что знаем: будут другие, такие же неразличимые для нас, как и эти. А они, поди, тоже посматривают на нас да завидуют: не один год, не одно лето землю топчем, их топчем. "Сашка!… ну, где ты там пасешься?! Я все узнала! Идем!.. Он говорит: обязательно рентген делать. Непременно!.. И тогда полная гарантия. Такой мужик, о-у!.. Там еще был главный рентгенолог Москвы Парин. Ты его видел? Ну, как же, он только что ушел. Иван Михайлович Парин. Такой модный, стрижка короткая, костюм финский, о-у!.. Тоже профессор. Ну, ты подумай — вот мужики!.. Ну, пошли, пошли!.."
Когда ранней весной небесные дворники вытряхивают из серых холстин остатки зазимнего снега, когда крупные сумасшедшие хлопья тяжело облепляют деревья, дороги и пешеходов, — белый воздух становится комковатым, свернувшимся молоком. Так и здесь было, в ординаторской, от халатов. "Вот, Лев Адамович, это отец…" — уже запросто, будто давнему карточному знакомцу представила Лина своего брата . А профессора я выделил сразу: он сидел на диване, один, как бы чуточку отдалясь от других. Моложавый (для профессора), скромный, приятный. И страшный. "Сестра моя вам уже все рассказала, но я коротко повторю…" Повторил. Симпатобластома (молчание), доброкачественная (двойное молчание), радикально (оживление в зале). Кто оперировал? Малышев? А-а… — с уважением. — Я его знаю, прекрасный хирург. У вас выписка из истории болезни есть? — деловито, но без подхлеста. Пробежал, передал, и пошло по рукам над столом. — Ну, так вот что я вам скажу…Вот Валентин Иванович Колычев у нас как раз занимается этими болезнями. Если все убрано радикально и провести рентгенотерапию массированными дозами, то можно гарантировать большие шансы на успех".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу