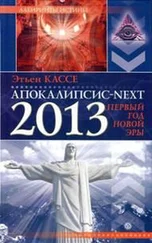Инджи тряхнула головой.
— У меня голова кружится.
— Самая тяжелая вина Рыжебородого… — продолжал Гудвилл, не обращая на нее внимания, и, как показалось Инджи, излишне громко — его низкий голос заполнял машину. Может, он всегда так разговаривает, а может, три пива в баре на скорую руку и неестественный кондиционированный воздух «Мерседеса» так подавляют ее. Да еще «Плимут» генерала ползет вдоль улицы, как предостережение, праздный, грохочущий.
Гудвилл Молой заговорил так, словно его к этому вынудили.
— Самая большая вина Рыжебородого в том, что под тем мемориалом на углу захоронены только четыре детские ручки.
Инджи ошеломленно смотрела на него.
— Не пять?
Она читала надпись, высеченную на высоком гранитном обелиске, надпись, гласившую, что пять ручек пяти детишек, умерших в концентрационных лагерях, положены сюда, дабы покоиться в мире, потому что нет возможности отвезти их королеве Англии.
— Пять Маленьких Ручек, — читала она вслух, — которые больше не играют, а, обвиняя, указывают пальчиками на империю и на преступления Англии.
Гудвилл рассказал ей, что однажды ночью Рыжебородый Писториус отпер свинцовую шкатулку и выкрал одну ручку. Во время их долгого путешествия, за несколько месяцев до того, как они добрались до Йерсоненда, он во время стоянки отыскал сангому, женщину, покрытую львиной шкурой, с гремящими гадальными костями, глубокими вздохами и пеной у рта. Она должна была помочь ему освободиться от рабской зависимости от женщины, более полугода ехавшей вместе с ними верхом на спине быка.
Сангома пообещала ему, что сделает это, и спросила, куда они направляются со своей черной повозкой. Рыжебородый рассказал и о золоте, и о ручках в свинцовой шкатулке. Женщина с жадностью потребовала:
— Ты должен вернуться, фельдкорнет, и принести мне одну из этих маленьких ручек. Это могущественное средство. А взамен я вылечу тебя и вырву эту рысь из твоих чресл. Я сниму твое вожделение к чернокожим женщинам.
Рыжебородый Писториус вынул одну маленькую ручку из свинцовой шкатулки, думая, что его никто не видит. Но Бабуля Сиела следила за ним.
Она задумалась, для кого же сангома собирается варить снадобье-мути из этих маленьких пальчиков? Это, должно быть, богатые люди, попавшие в большую беду. Мути из ребенка очень дорого стоит. А в какой порошок истолкут эти ногти? — гадала Бабуля Сиела. Чтобы оживить чью-то любовь? Чтобы принести забвение тому, кого мучит прошлое? Заново соблазнить любовника, возлежащего с другой женщиной? Вылечить рак?
Только один маленький пальчик сварила сангома для Рыжебородого вместе с сильнодействующими травами.
— Человеческая плоть. Ешь! — шипела сангома. — Великое мути…
До конца своих дней Рыжебородый нес на себе бремя этой вины, этой кражи, этого каннибализма. Он знал, что теперь ребенок никогда не обретет покоя в своей могиле, в концентрационном лагере на севере. Маленький мальчик будет вечно скитаться, потому что потерял свою ручку ради колдовства, потому что человек, ставший богатым и важным, живет с маленьким пальчиком в своем желудке, притворяясь невинным.
Потому что если ты съешь человеческую плоть, переварить ее ты не сможешь. Ты будешь носить ее внутри себя вечно — вот почему из нее получается такое сильнодействующее мути. До самой его смерти люди из Эденвилля называли его «Розовенький», и каждое утро своей жизни по дороге в контору адвоката он шел в обход и останавливался на какое-то время около монумента. Белые считали, что это знак уважения, но цветные знали: этот человек несет бремя страшной вины.
— Спасибо, — сказала Инджи, открывая дверцу «Мерседеса». По жаркому солнцу она добежала до Дростди, толкнула тяжелую парадную дверь и остановилась, запыхавшись, в похожей на пещеру гостиной с головами животных на стенах, мечами, тяжелой мебелью и книгами в кожаных переплетах.
Пахло корицей, слышались приглушенные голоса служанок из кухни. Пронзительно вскрикивал попугай, трещал передатчик генерала. Инджи помчалась в свою комнату.
— Пусть ангелы ведут нас! — услышала она крик генерала из кабинета.
Тогда Инджи закрыла голову подушкой и стала дожидаться, когда успокоится сердцебиение.
— Не забывай, зачем ты здесь, — шепнула она себе. — Ради скульптуры. Ради Спотыкающегося Водяного.
3
Джонти Джек стоял перед Спотыкающимся Водяным. Как будто я стою перед исчезнувшим отцом; словно напротив матери. Ах! Как много значит для меня эта скульптура! Отец, да, и мать тоже. А теперь Спотыкающийся Водяной стал насестом для ангела, он появляется, садится ему на голову и гадит, а я должен тщательно его вытирать и удивляться маленьким мышиным черепам, семенам, птичьим коготкам в помете мужчины в перьях, и все это надо убирать постепенно, и чистить, и натирать коровьей мочой, чтобы рыбак приобрел более глубокий бронзовый оттенок, чем даже под яростным солнцем.
Читать дальше