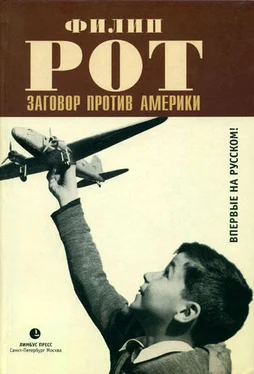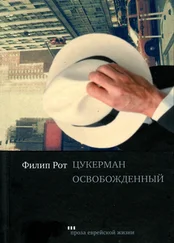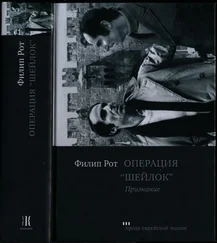Элвин занимался рэкетом в Филадельфии, Сэнди жил во внутренней эмиграции в родном доме, а авторитет моего отца как защитника и главы семьи самым драматическим образом упал, если не пропал вовсе. Двумя годами раньше он, в стремлении сохранить добровольно избранный нами образ жизни, нашел в себе силы отправиться в контору и, глядя в глаза боссу, отказаться от повышения по службе, которое сулило карьерный рост и прибавку к жалованью, однако было связано с неизбежным переездом в немецкую, а значит, и пронацистскую часть Нью-Джерси. А сейчас у него не нашлось мужества встретить новый, ничуть не менее опасный, вызов с тогдашней непримиримостью, он решил, что сопротивление бесполезно и что мы отныне не хозяева собственной судьбы. Страшно, что отец оказался бессилен перед корпорацией, а та, в свою очередь, — бессильна перед государством. Никто больше не мог защитить нас, кроме меня.
На следующий день после уроков я опять поехал в центр города на автобусе, на этот раз — на № 7, ближайшая остановка которого находилась примерно в трех четвертях мили от Саммит-авеню, на другом конце приусадебного хозяйства, принадлежащего монастырю с приютом, прямо у главного входа в собор Св. Петра на Лайонс-авеню, — и в тени этого величественного здания с колокольней и куполами у меня было еще меньше шансов попасться на глаза соседу, или однокласснику, или другу семьи, чем когда мне надо было пройти мимо средней школы до Клинтон-плейс, чтобы сесть на № 14.
На остановке я дожидался автобуса вместе с двумя монахинями, одетыми в одинаковые тяжелые черные балахоны, которые мне в тот раз удалось впервые в жизни тщательно рассмотреть. Одеяния эти начинались от макушки и свисали чуть не до земли, еще белая материя обрамляла нос, рот и глаза, скрывая все остальное — лоб, уши, шею, подбородок, и разобрать, где собственно балахон, где головной убор не представлялось возможным — они были единым целым. В моих глазах эти монашки были самыми архаичными существами, и выглядели куда более странно, чем обычный священник, которого мы иногда встречали в похоронной процессии. Я не смог обнаружить у них ни карманов, ни пуговиц и совершенно не понял как они держатся, как их снимают, если вообще когда-нибудь снимают. А поверх еще на цепочке висел крест с распятием и на широком кожаном поясе — четки длиной в несколько футов из блестящих шариков, напоминающих наши шарики-«убийцы». Сзади тоже что-то висело до пояса — не то пелерина, не то капюшон. То есть вообще ничего мягкого, женского, человеческого в них не чувствовалось, за исключением неприметного, ненакрашенного голого лица.
По моим прикидкам, эти монахини присматривали за сиротами и преподавали в католической школе. Обе не глядели в мою сторону, да я и сам — в отсутствие рядом такого нахального умника, как Эрл Аксман, осмеливался посматривать на них лишь украдкой; я стоял потупившись, но взглянуть на них меня тянуло снова и снова — уж больно волновал меня вопрос о том, как устроены их тела и как они справляются с отправлением естественных потребностей, — и мысли мои были одна неприличней другой. Несмотря на серьезность тайной миссии и всего, что было поставлено на карту в связи с тем или иным ее исходом, я не мог спокойно стоять рядом с монашкой, тем более — рядом с двумя монашками сразу — и не предаваться при этом отнюдь не кошерным размышлениям.
Монашки сели рядышком на переднее сиденье, прямо за спиной у водителя, и хотя большинство кресел в задних рядах пустовали, я сел через проход от них — прямо у выхода и билетной кассы. Я не собирался садиться туда, и сам так и не понял, почему на это решился, но вместо того чтобы пройти вглубь салона, где я наверняка был бы избавлен от каких бы то ни было приставаний, сел через проход от них, раскрыл тетрадку, притворяясь, будто делаю домашнее задание, а на самом деле — и надеясь подслушать какой-нибудь истинно католический разговор, и панически боясь этого. Увы, они молчали и, как я предположил, молились, что, правда, тоже было весьма интригующе — молиться в автобусе!
Где-то минут за пять до прибытия в центр, четки мелодично зазвенели: монашки, дружно поднявшись с места, вышли на перекрестке Хай-стрит и Клинтон-авеню. Перекресток этот больше походил на площадь — с автосалоном под открытым небом в одном конце и гостиницей «Ривьера» в другом. Уже в проходе та из монахинь, что была выше ростом, удостоила меня мимолетной улыбкой и со смутной грустью в голосе (вызванной, скорее всего, тем, что мессия сошел с небес и вновь вознесся на них явно без моего ведома) заметила другой: «Какой славный мальчуган — умненький и ухоженный!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу