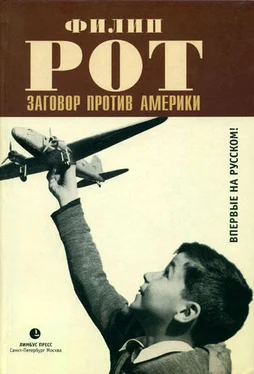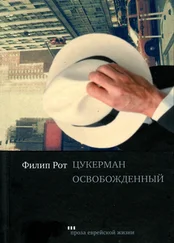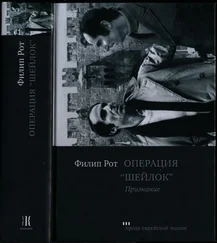— Глянь-ка! — шепнул мне Эрл. — Глянь-ка на верхушку! Там же Христос!
— Нет, это ангел.
— А кто такой, по-твоему, Христос?
— По-моему, это их бог.
— И предводитель ангелов. И это он и есть!
Это была кульминация всего нашего шпионажа: мы увидели Христа, который для преследуемых нами людей был всем на свете, а для меня — главным источником мирового зла, — потому что, не будь Христа, не было бы и христиан, а не будь христиан, не было бы и антисемитизма, а не будь антисемитизма, не было бы и Гитлера, а не будь Гитлера, Линдберг ни за что бы не стал президентом, а не стань он президентом…
И вдруг мужчина, которого мы преследовали, развернулся в дверном проеме на сто восемьдесят градусов и ровным голосом, словно не заговорил, а всего лишь выпустил кольцо табачного дыма, окликнул нас:
— Мальчики.
Внезапное разоблачение повергло нас в такой ступор, что я, например, чуть было не повел себя как пай-мальчик, каким был всего два месяца назад, — то есть чуть было не шагнул вперед и, назвав свое имя, повинился перед незнакомцем. Лишь Эрл, потянув за рукав, удержал меня от подобного безрассудства.
— Не прячьтесь, мальчики. Вам ничего не будет.
— Ну и что теперь? — шепнул я Эрлу.
— Тсс…
— Мальчики, я знаю, что вы там. А ведь уже стемнело. — Голос его звучал предостерегающе и вместе с тем приветливо. — Вы не замерзли? Как насчет чашечки горячего какао? Давайте же, заходите, пока опять не повалил снег. У меня есть горячее какао, и пирог, и торт, и фигурные леденцы, и крекеры в форме всевозможных зверюшек, — и зефир! Мальчики, у меня есть зефир!..
Когда я в очередной раз посмотрел на Эрла, чтобы узнать, что делать, он уже улепетывал из этого пригорода по направлению к Ньюарку.
— Удираем, Фил, — крикнул он мне. — Это педик!
Январь 1942 — февраль 1942
ОБРУБОК
Элвина выписали из госпиталя в январе 1942 года: сначала он передвигался в инвалидном кресле, потом — на костылях, и наконец, после долгого реабилитационного курса, проведенного специально подготовленными медработниками из канадской армии, научился ходить на протезе. Канада предоставила ему пенсию по инвалидности в размере ста двадцати пяти долларов в месяц (что было в два раза меньше того, что ежемесячно получал на службе мой отец) и еще триста долларов в порядке компенсационных выплат. Пожелай Элвин остаться в Канаде, его как инвалида войны ожидали бы и другие льготы, начиная с моментального получения канадского гражданства заявительным порядком. И почему бы тебе и впрямь не стать канаком? — спрашивал у него дядя Монти. Да ведь действительно: раз Элвину опротивели США, почему бы ему было не остаться в Канаде, с тем чтобы получить свою долю пирога?
Монти был самым самоуверенным из моих дядюшек, должно быть, потому, что был из них и самым богатым. Он сделал состояние на поставках овощей и фруктов для продуктового рынка на Миллер-стрит, неподалеку от железной дороги. Дело было начато дядей Джеком, отцом Элвина, он взял к себе на службу и Монти, к которому оно и отошло, когда Джек умер. Монти, в свою очередь, взял на службу самого младшего из братьев, моего дядю Эрби, а потом пригласил и моего отца, но тот отказался, хотя тогда они с матерью только что поженились и сидели без гроша. Но уж лучше так, чем находиться в подчинении у Монти, от которого он натерпелся еще в детстве. Мой отец ничуть не уступал Монти по части кипучей энергии и преодолевать любые трудности умел ничуть не хуже его, но, в отличие от брата, был начисто лишен авантюристической жилки, что тоже выявилось с самого начала, когда они оба были еще мальчиками. В частности, Монти прославился тем, что зимой завалил весь Ньюарк свежими помидорами, а сделал он это так: закупил партию зеленых томатов на Кубе, дал им дозреть на втором этаже овощной базы на Миллер-стрит, а потом упаковал по четыре штуки и продал втридорога, получив в результате прозвище Синьор Помидорщик.
В итоге мы жили в съемной, пусть и пятикомнатной, квартире на втором этаже «двух-с-половиной-квартирного» дома, а мои дяди, занятые оптовой торговлей, обосновались в еврейской части шикарного пригорода Мэплвуд, где каждому из них принадлежало по большому белому дому в колониальном стиле с зеленой лужайкой у входа и сверкающим «кадиллаком» в гараже. Хорошо это или плохо, но ярко выраженный эгоизм какого-нибудь Эйба Штейнгейма, или дяди Монти, или рабби Бенгельсдорфа — подозрительно энергичных евреев, выбившихся из грязи в князи на максимальный для каждого из них уровень и благоприобретенным статусом «больших начальников» упивающихся, — у моего отца отсутствовал или, самое меньшее, не давал о себе знать (равно как и стремление к превосходству); и хотя в плане личной гордости, постоянной работоспособности, да и боеготовности тоже, он им ничуть не уступал (да и источник честолюбия у них был одним и тем же: происхождение из еврейской бедноты и неизбежные насмешки в отрочестве и в юности), ему хватало самоуважения и без того, чтобы унижать ближних, хватало скромной карьеры, не разрушающей ничьей другой. Мой отец был рожден действовать и защищать, но ни в коем случае не нападать, — и вид поверженного врага не вызывал у него, в отличие от Монти (не говоря уж об остальных делягах), восторга. В жизни были начальники и подчиненные, и боссы становились боссами по праву, может быть, даже по праву рождения, так дело обстояло в бизнесе, а уж каков этот бизнес — строительство, религия, торговля или аферы — не имело значения. Только так, выбившись в начальники, казалось делягам, они могут избежать обструкции, унижений, да и просто-напросто дискриминации со стороны протестантской бизнес-элиты, на службе — а значит, и в подчинении — у которой по-прежнему пребывали девяносто девять процентов евреев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу