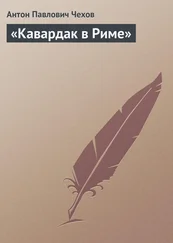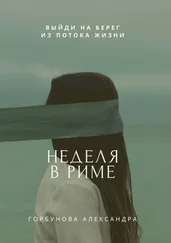Ева спала, она спала вытянувшись. Она спала на узкой односпальной кровати тесного номера, спала все такая же напряженная, только волосы были расплетены, распущены, похожие на пожелтевшую, забытую в поле пшеницу, на неубранную солому, уже выцветшую и поблекшую, но она спала крепко, без сновидений, глупо открыв рот, слегка посапывая, тело ее пахло, как пенки вскипяченного молока, — уснувшая гневная Норна ночного бездумья…
Предавшись ночному бездумью, спал Дитрих Пфафрат и громко храпел в той же гостинице, но на более мягкой постели. Вино, выпитое им вместе с родителями и другими немцами того же круга и тех же взглядов, не утомило его, открытый чемодан стоял возле самой кровати, ибо Дитрих был старателен и прилежен и даже во время восхитительной семейной поездки в Италию продолжал готовиться к ответственному государственному экзамену по юриспруденции; он был уверен, что выдержит его, но все же читал юридическую литературу, которую привез с собой. Форменную фуражку студенческой корпорации Дитрих тоже прихватил с собой — ведь всегда можно встретить членов других корпораций и устроить веселую попойку. Фуражка с цветной лентой лежала рядом со сводом законов: Дитрих был уверен в том, что студенческая корпорация я закон помогут ему в жизни. В открытом чемодане лежали еще карты дорог. Дитрих охотно водил машину обер-бургомистра, своего отца, и тщательно отмечал крестиком те места, которые следовало посетить, названия этих мест он записывал на особый лист бумаги и аккуратно регистрировал имеющиеся там достопримечательности, а красным карандашом подчеркивал места боев — их тоже надо было осмотреть — и точные даты сражений. Возле чемодана лежал журнал. Дитрих бросил его туда, когда гасил ночную лампочку, но плохо прицелился, и ярко иллюстрированный журнал не попал в чемодан. Дитрих купил его в киоске, он считал, что за ним не наблюдают здесь, в Риме, где он никого не знал и где никто не знал его. На обложке была изображена девица, она стояла, расставив ноги, пестрая, мясистая, в блузке, расстегнутой до пупа, сетчатые чулки облегали ее мясистые упругие бедра, в этот вечер не пиво, а эти бедра утомили Дитриха. Побороть влечение к девушке он был бессилен, зато его с огромной силой тянуло к сильным мира сего, которым он хотел служить, чтобы сидеть в доме могущества, приобщиться к силе могущества и самому стать могущественным.
Довольный собой, дремал Фридрих-Вильгельм Пфафрат, хотя и не в объятиях, но рядом с женой Анной на двуспальной кровати — дома они спали порознь. Да и чего быть недовольным? Его жизнь представлялась ему безупречной, а жизнь не бывает неблагодарной по отношению к людям безупречным. В Германии чувства стали снова немецкими и мысли стали тоже немецкими, хотя страна и была поделена на две чуждые друг другу половины, и Фридрих-Вильгельм Пфафрат снова стал городским головой благодаря одобрению, симпатии, приверженности граждан к строго демократическим выборам, причем все произошло безупречно: никаких махинаций, никакого обмана избирателей, никаких подкупов и, уж конечно, не по милости оккупационных властей; нет, его выбрали добровольно, и он был рад, что стал обер-бургомистром, хотя раньше уже был обер-президентом и распоряжался большим партийным имуществом, он был рад, он был безупречен, но страшное видение незаслуженно и несправедливо потревожило сон безупречного обер-бургомистра: в черном мундире, на храпящем коне подскакал к его ложу Юдеян, хор яростно пел Отчаянную нацистскую песню, и Юдеян рванул к себе Пфафрата, посадил рядом с собой на храпящего коня, и в такт песне они понеслись к небу, там Юдеян развернул огромное светящееся знамя со свастикой и тогда сбросил Пфафрата, столкнул его вниз, и Пфафрат падал, падал, падал — против этого кошмара могущественный обер-бургомистр Фридрих-Вильгельм Пфафрат был бессилен, совершенно бессилен.
Бессилен я. Я умываюсь. Умываюсь холодной водой из раковины и думаю о том, что вот эта вода течет по старому римскому водопроводу, течет ко мне с печальных голубых гор и через развалившиеся стены акведука — такими их нарисовал Пиранези, — проходит сюда в раковину, приятно умыться такой водой. Я иду босиком по прохладному каменному полу комнаты. Ощущаю под ногами холодный и твердый камень. Приятно ощущать прохладу камня. Я ложусь нагим в широкую постель. Хорошо лежать нагим в широкой постели. Я не накрываюсь ничем. Хорошо лежать одному. Я словно предлагаю кому-то свою наготу. Нагой, неприкрытый, я смотрю на неприкрытую нагую лампочку. Мухи жужжат. Наг, раздет. Белая нотная бумага лежит на мраморе комода. Но она уже не белая: бумага засижена мухами. Я не слышу никакой музыки. Во мне ни единого звука. Нечем освежить себя. Ничто не может освежить жаждущую душу. Нет никакого родника. Августин удалился в пустыню. Но тогда в пустыне был родник. Рим спит. Я слышу гром великих сражений. Он еще далек, но он ужасен. Битва еще далека, но она приближается. Скоро заалеет утро. С улицы донесутся шаги рабочих. Битва придвинется, и рабочие пойдут ей навстречу. Они не будут знать, что идут на бой. Если их спросить, они скажут: «Мы не хотим идти на бой», но они пойдут. Рабочие всегда встают в строй, когда надвигается битва. И девушка в красном галстуке пойдет вместе со всеми. Все гордецы идут в бой. Я не горд, или я тоже горд, но по-другому. Я раздет, я наг, я бессилен. Нищ, наг, бессилен.
Читать дальше