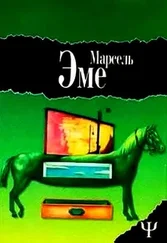За столом у Аршамбо царила нервозность. Инженер воздерживался от упреков, но не скрывал тревоги.
— Вот вам и подтверждение того, что вы не застрахованы от неприятного сюрприза. Надо вести такой образ жизни, в котором ничего не было бы оставлено на волю случая.
Делько готов был обеими руками подписаться под этими мудрыми словами. Он страдал от того, что приносит Аршамбо столько беспокойства, к тому же ему было за что упрекнуть себя и в другом плане. Днем он едва не злоупотребил расположением к нему госпожи Аршамбо. Они были одни и сидели друг против друга в столовой. Она говорила о предстоящем летнем отдыхе в Перигоре и, строя планы относительно того, как они поедут туда все вместе, включая и Максима, взяла его за руку, называя при этом «мой малыш», «мое дорогое дитя». Едва не поддавшись искушению, он воззвал к своей совести. Движимый чувством долга перед Аршамбо за все, что тот для него сделал, он сумел найти в себе силы убрать руку, но тут госпожа Аршамбо, сгорая от нетерпения, вскочила и погрузила его голову в свой бюст, приговаривая: «Ну-ну, будьте же благоразумны, мой мальчик. Вам слишком долго пришлось воздерживаться, я понимаю, как это мучительно». К счастью, звук шагов в коридоре возвестил о приходе Пьера. Делько был выпущен на волю.
— В общем, — заключил инженер, — лучше всего установить жесткий распорядок и строго его придерживаться.
Взяв из рук Мари-Анн омлет с картошкой, госпожа Аршамбо положила себе и, перед тем как пустить блюдо по кругу, навалила в тарелку Делько такую огромную порцию, что он стал краснее помидора. Пьер, которому по заведенному порядку полагалось брать последним, провожал блюдо с омлетом тревожным взглядом. Благодаря отменному аппетиту его всегда очень живо интересовали вопросы, связанные с пищей, а особенно с ее количеством. При виде непомерной доли омлета, доставшейся постороннему, сердце его наполнилось горечью и злостью.
В «Золотом яблоке» Журдан набрасывал перед учениками своего первого класса общую картину французской литературы 18-го столетия. Уроки французского в эти последние недели перед экзаменом проходили в форме собеседований, в которые он старался вместить всю программу, пройденную за год.
«Золотое яблоко» стало самым большим кафе в Блемоне с того дня, как «Националь», располагавшийся на противоположной стороне перекрестка, рухнул под бомбами. Продолговатый зал украшали большие зеркальные панно, а дальний угол, отделенный от остальной части заведения перегородкой, наполовину не достигавшей потолка, представлял собой довольно укромное местечко, где обитые зеленым шелком стены и обтянутые красным плюшем банкетки выдавали претензию на изысканность. Поговаривали — без особой, правда, убежденности, — что немецкие офицеры устраивали тут ночные оргии в обществе хозяйки, которую, кстати, в день Освобождения остригли наголо. В этом небольшом салоне только-только хватало места для Журдана и его двенадцати учеников, но как раз ограниченность пространства и комфорт создавали благоприятную для обучения атмосферу интимности.
Вопреки своей привычке прохаживаться между двумя рядами банкеток Журдан вел урок, сидя за своим столиком и упершись руками в столешницу белого мрамора. Вид у него был отсутствующий. Обычно, когда изучалась одна из дорогих его сердцу тем — как, например, сегодняшняя, об энциклопедистах, — взор его воспламенялся, в голосе звучали горячность и напор, взбадривавшие аудиторию, но сейчас все куда-то подевалось. Лишь изредка, при упоминании о Руссо или Дидро, к нему на миг возвращался былой задор, но так же быстро и улетучивался. Ученики, от которых не ускользнула рассеянность, а может быть, усталость учителя, слушали его менее внимательно, чем обычно, и отвлекались на свои дела. Самым непоседливым учитель добавил в наказание по четыре внеурочных часа, но позабыл отметить в журнале. Впрочем, учеников эти внеурочные часы не особенно пугали. Они протекали по четвергам с утра в «Коммерции» или «Прогрессе» под наблюдением классного надзирателя, который потягивал вместе с хозяином белое вино, и наказанным разрешалось угощать всех присутствующих.
Впервые с тех пор, как Журдан обосновался в Блемоне, занятия были ему в тягость. Он охотно сбросил бы с себя эту обязанность и вместе с тем невольно стремился оттянуть конец урока. Еще с утра он твердо решил пойти к пяти часам в «Прогресс» к Рошару и как следует его проучить. Накануне он долго не мог уснуть, взвешивая все «за» и «против», и отложил решение на завтра, а проснувшись, понял, что не может уклониться от выполнения своего долга, как бы ему ни было противно. Не то чтобы он боялся помериться с Рошаром силой. Веря в себя и в неотразимость удара коленом в низ живота, он тем не менее допускал возможность неудачи, даже поражения, и мирился с риском оказаться не только избитым, но и осмеянным, однако что-то в нем протестовало против этого акта насилия, совершаемого с заранее обдуманным намерением. В глубине души учитель считал себя созданным исключительно для интеллектуальных дерзаний, для плодотворных размышлений, для идеологических битв, для героической кончины в назидание потомкам, но уж никак не для низменного ремесла костолома. Эта глубокая уверенность в том, что он человек особой породы, которому от рождения суждено стать одним из генералов революции, постепенно укрепилась в его сознании как непреложный факт, сколько бы он ни отгонял ее как недопустимый абсурд и буржуазный пережиток. Так что предстоявшую ему в «Прогрессе» грязную работу он воспринимал как лекарство от своих внутренних противоречий, как испытание, необходимое для его же спасения, что не мешало ему питать к ней сильнейшее отвращение.
Читать дальше
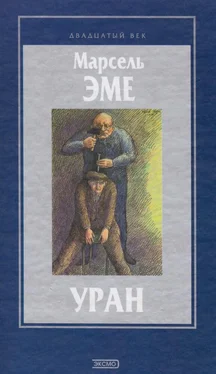
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)