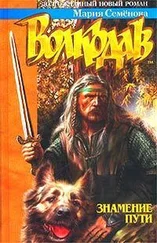В социальных сетях место псов войны заняли котики войны. Котенок, спящий в каске солдата ВСУ, герой, спасший беременную кошку из завала, – это уже про ополченца. Симпатичные мальчишеские лица в одинаковом хаки. Мне оставалось только гадать, смотрели ли люди, которые размещали в сети все эти фотографии, старый американский фильм «Хвост виляет собакой» или же уверенность, что на чьей стороне больше котиков, тот и прав, уже успела стать частью коллективного бессознательного. Финальное коммюнике цивилизованной войны двадцать первого века должно выглядеть следующим образом: «В ходе ведения боевых действий ни один котенок не пострадал!» А люди… кто их считает, этих колорадоукропов.
Между котиками размещали фотографии убитых детей с одной стороны и трогательные детские рисунки в поддержку героев АТО – «Ми, дiти Украiни, пишаемость Вами!» [26]– с другой. С детьми, в отличие от котиков, паритета не получалось. Мертвые дети в смысле пропагандистского эффекта безусловно выигрывали у живых, но поскольку предъявить миру невинных киевских младенцев, убитых луганскими террористами, было невозможно, приходилось повторять проверенное: «Они сами себя обстреляли». Это работало. Но не так хорошо, как котики…
В письменном столе много лет валялась тетрадка моих подростковых стихов, но именно сейчас мне стало особенно жалко, что вместе со мною «если что» в небытие канут и эти неловкие строчки. Благословляя длящееся затишье, я набрала на компьютере любимые четверостишия, создала страничку на бесплатном хостинге и забросила туда стихи, свои детские фотографии, несколько маминых и папиных черно-белых карточек. Пусть от нас останется хоть что-нибудь. Если что.
В полдень над городом раздался новый незнакомый звук, низкий и мощный. Мы с мамой, не сговариваясь, выбежали на веранду и увидели, как за вокзалом над рекой заходят военные самолеты и очередью выпускают ракеты по домам на том берегу. Мы стояли, держась друг за друга, плакали и не слышали звука собственных рыданий в плотном гуле двигателей. Завтра такие же самолеты могли пролететь и над нашим домом, но разрушение чужой жизни ранило больнее, чем страх за собственную. Самолеты отстреливались минут пятнадцать, потом улетели, и в дело снова вступила артиллерия. Но «гупало» пока еще не над нами, пока еще в стороне.
После обеда опять не было воды. Наверное, осколками задело насосную станцию. Дома оставалось еще несколько бутылок, и огород я полила с утра, но лучше бы было подстраховаться. Хорошо, что в начале нашей улицы стояла работающая колонка. Я вывела из сарая старую проржавевшую детскую коляску и нагрузила ее пустыми пластиковыми бутылками. Мне нельзя было поднимать и носить тяжести, но коляска катилась легко, Лида против коляски не возражала.
Улица выглядела непривычно. Вначале я не могла понять, в чем дело. А потом заметила, что на всех лавочках, обычно пустых в это время дня, сидят незнакомые мне люди, и у многих из них мокрая одежда, мокрые волосы. Было очевидно, что с ними что-то случилось, вероятно, что-то ужасное, хотелось броситься и спросить, предложить помощь. Но их поведение останавливало, предупреждало любой поспешный драматический жест. Мужчины и женщины в мокрой одежде старательно делали вид, что ничего такого особенного не происходит. Что все нормально, а они… они просто присели отдохнуть от жары, посмотреть на абрикосы и яблони, гнущиеся под тяжестью плодов. А одежда, волосы… это не важно. Люди отворачивались и отводили глаза, их вид молил – не подходи, не спрашивай ничего, проходи мимо. Было страшно нарушить это гордое хрупкое молчание, и я отводила глаза тоже и чувствовала себя виноватой в том, что мне есть куда вернуться. Коляска прыгала на рытвинах, а длинная наша улица все не кончалась, будучи бесконечной, как человеческое горе. Больше над нами в этот день не стреляли.
Поздно вечером Лида вернулась со смены, сбросила туфли у входа, села за стол. Я протянула ей чашку мятного чая, она, не глядя, сыпанула туда сахара, перемешала и долго пила, прихлебывала этот сиропчик и говорила, говорила, говорила о пережитом и передуманном за день. Мы были знакомы тридцать лет без малого, но прежде никогда так много и так откровенно не разговаривали. Люди жались друг к другу, как всегда во время беды, восстанавливая ослабевшие в ежедневной суете связи, словно боялись «если что» забрать все важное и невысказанное с собой.
– У меня в отделении девчонка ходит по стеночке, держится за живот и хватает врачей за руки. Ей кажется, что ребенок у нее в животе умер. Доставайте, говорит… Достаньте, я его похороню. Мы ей говорим – все в порядке у вас и у малыша, толкается, сердечко слышно, родится, когда положено. А она опять за свое: он умер, я знаю, он умер… После обстрела это с нею. Они от него в шкафу прятались. Спрашиваю, почему в шкафу. Отвечает спокойно, рассудительно даже – не знаю, – говорит, – я в него еще в детстве пряталась. Запомнилось, видно, прятаться – значит, в шкаф. И опять за свое… «Достаньте, похороните…» Ждем, когда родит, будем решать, домой отправлять или к коллегам на Белую горку… Господи, что я тебе рассказываю, не слушай меня…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу