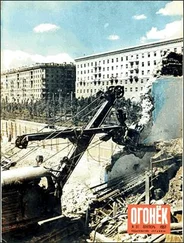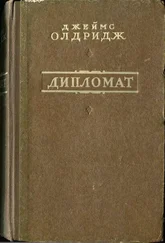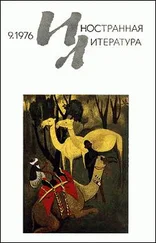Маленький Нури ухаживал за ним, как за больным козленком, называл ласкательными именами, поднося к его губам чашку с верблюжьим молоком, упрашивал выпить хотя бы один глоток, капельку, чуточку. Он показал Гордону нарывы на пояснице Смита, сказал «мискин!..» [12] Бедный, несчастный (арабск.).
и жалобно засопел носом.
— Принеси-ка воды, — приказал Гордон.
Преодолевая чувство морального и физического отвращения, которое он всегда испытывал, прикасаясь к чужому телу, Гордон выдавил гной, вычистил раны и прикрыл их носовым платком Смита.
— О мискин, мискин, — причитал маленький Нури.
Гордон поглядел Смиту в лицо и почувствовал к нему жалость. Он понимал трагическую половинчатость этого человека, который был увлечен примером Лоуренса, но остался горожанином в душе, и если одна часть его существа удерживала его в пустыне, то другая неодолимо тянула домой, в Патни, в тесный мирок маленьких людей.
— Господин, — сказал маленький Нури, — самое лучшее, это прижечь больное место. У меня есть железный прут. Позволь мне раскалить его и сделать прижигание. Злой дух не выдержит жара и погибнет. — Нури скосил глаза в сторону, где уже лежал наготове ружейный шомпол: оставалось только накалить его докрасна и приложить к пояснице Смита.
— Не нужно его трогать, — сказал Гордон. — Смачивай ему водой губы и лоб. А духов оставь в покое. Его болезнь гнездится в мозгу, а не в теле, и твоя раскаленная кочерга тут не поможет, разве что ты раскроишь ему череп. Этим-то и отличается человек от козы, понял, глупыш? Так что не мучь его зря.
С поверженным, выведенным из строя Смитом нечего было надеяться на внешний успех задуманного плана — единственное, на что Гордон мог надеяться; и от этого сразу иссяк душевный подъем, который ему удалось вызвать в себе у аэродрома. Реальность успеха сжалась в два маленьких комочка боли на широкой, влажной от пота спине Смита, и Гордон почувствовал, что весь его пыл — в который уже раз — оборачивается против него. Думая об этом, он машинально протянул руку к томику «Семи столпов», который он обнаружил среди носовых платков Смита. С книгой в руках он прошел по лагерю, мимо большого костра, у которого хлопотали его оборванцы, — готовилось роскошное пиршество по случаю того, что Минка вчера учинил набег на ближайшее кочевье и стащил двух баранов. Никто даже и не взглянул на Гордона. Люди хохотали, хлопали в ладоши, пели, перекидывались непристойными шутками; и Гордон стал карабкаться вверх по склону, чтобы уйти от них подальше.
Он вышел на тропу, которую ему указал Хамид, когда он в первый раз проезжал через Джаммар во время иракского восстания. Джаммарцы называли эту тропу Лестницей Иакова, потому что она вела на самую высокую вершину Джаммарской гряды. Через час Гордон уже был наверху. Отсюда, с величественного скалистого гребня, ущелье напоминало две половинки ореховой скорлупы, лежащие на доске красного мрамора. Где-то далеко внизу тянулись в обе стороны красные пески пустыни, уходя в бескрайний простор рубиновых горизонтов. Большая плоская скала на самой вершине звалась Столпом Иакова (в Аравии каждый горный пик носит это название); здесь и уселся Гордон полюбоваться пурпурным великолепием окружающего мира.
Глядя отсюда на своих людей — крохотные существа, копошащиеся внизу, в ущелье, — он мог вновь забавляться той игрой в Прометея, которой еще недавно надеялся побудить себя к действию. Здесь, на этой высоте, он мог без притворства чувствовать себя полубогом. Но вместе с тем он оставался смертным, и это было опасно, потому что, подумал он вдруг, рано или поздно боги настигнут его и покарают за дерзкие попытки разыгрывать бога по отношению к смертным там, внизу. Это была мучительная мысль: в ней был и страх за себя, страх перед тем, чем грозит ему неудача, и сомнение, потому что возникал вопрос, что будет с ним, когда восстание окончится — все равно, поражением или победой. Ведь вот для Лоуренса в самом успехе (каким явилась победа восставших племен) заключен был личный крах: с той минуты, как племена получили свободу, исчезла цель, служению которой он отдавался с такой страстью. Человек отдает душу борьбе за свободу, а не результату этой борьбы, и, достигнув успеха, он чувствует себя опустошенным, разочарованным и даже озлобленным. Гордон изведал это уже сейчас, на уединенных высотах Столпа Иакова, ибо понял, что он, как Фауст в своих заклинаниях, потерпел неудачу, пытаясь вызвать к жизни ту сокровенную силу, которая одна может сплотить людей в едином порыве.
Читать дальше