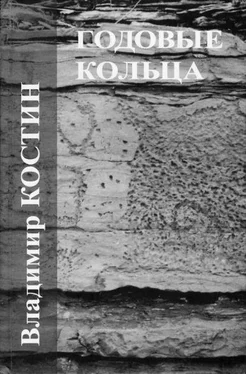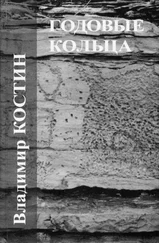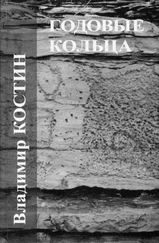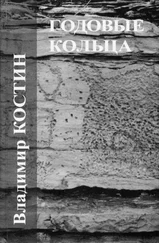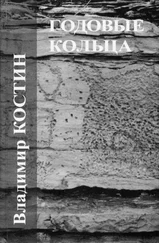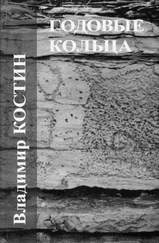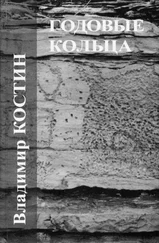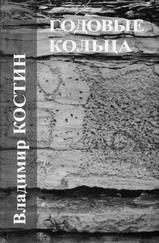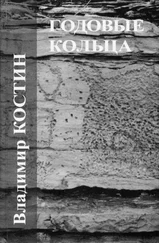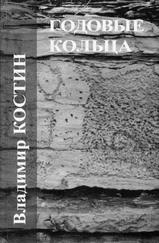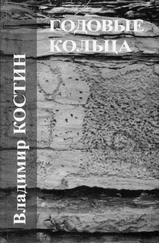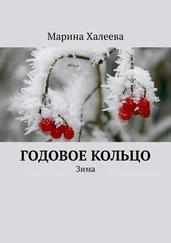— Устала, бабуска? — искренне сочувствует он, — много песком ходис, глус у тебя тязолый?
— Устала, сынок, — отвечает она, — тяжело мне, холод не чувствую.
— И я устал, — кивает он, — и стал бы, а не могу нипоцем.
— Отдыхай, отдыхай уж, — соглашается она с ненавистью, и добавляет: — Дело молодое.
Трамвай тормозит, юноша вдруг великодушно встает и говорит ей: — Хоцес, поделзу?
— Нет, спасибо, миленький, — отвечает она, правильно, похоже, понимая его наитие. И забивается на сиденье, пряча сумки под валенки.
— Ну и сиди, зопа сталая, — добродушно говорит он и выпрыгивает в туман.
Но чу! Наконец-то просыпается и непременная тема обмана, она, долгожданная, завязывается сразу в двух местах. Мы все подряд — обманутые и оскорбленные люди. Нас дурят, кидают, обворовывают, позорят государство, сослуживцы, соседи и родные нам люди. За долгие трамвайные годы я понял не одно только то, что нетронутых обманом и обидой людей у нас не осталось. Это неудивительно при нашем прогрессизме. Дайте постареть — и я подсяду в трамвае к знакомой сверстнице и сквозь диабет столько ей понарасскажу, вороша торфяное болото памяти!
«Heт беда в том, что, с другой стороны, если все обмануты в лучших чувствах, то, видно, все и виноваты. Все соблазнились! И народная особенность здесь та, что чаще всего дурят и обижают нас у нас глупо, нерасчетливо, на свою же голову, повинуясь неразумному хватательному инстинкту голодных рыб. Нет, не саксонцы мы — те, небось, и в этом доки! Легко срывается рука, птицей вылетает роковое слово. Но запредельны проценты в банке жизни. И уже завтра протер глаза — а в губе крючок! Мы — народ с крючком в губе», — удовлетворенно думаю я, частично смущенный своим глубокомыслием.
Да, всякая встреча человека с обществом исполнена у нас горестного и сладостного садомазохизма. О, трамвай, в этом ты классик, тебе воистину дана чистота этой встречи!
Передо мной висит в воздухе ветхое, но красивое — барское левое ухо старика. Может быть, он разглядел во мне собеседника, поскольку адресно шепчет мне: — Народ наш, наши бабушки — они как те лягушки. Ночью они зовут день, днем — ночь. У них Литва до сих пор с неба падает. Ничего не помним, ничего не любим. Только завидуем. Даже несчастьям чужим завидуем. И так уж целый век. Как зажили до войны в страхе, в истерике, так безответственно и существуем. Мелочевщина!
Спокойная горечь его тона меня удивляет. Знакомые мне университетские старики самодовольны и уклончивы. А иные старики не владеют подобной речью.
— А как же поколение обманутых героев? — пробую я старика.
— А их не было, обманутых, кроме мальчишек, повзрослевших на войне, — печально сказал старик, — они потому и рвались в герои, что не было выбора, чтоб убежать от взрывающихся примусов. Многие — герои со страху. И войны с Германией как избавления ждали, она же лубочной рисовалась, такой, что «меня не убьют»… В городах тогда, молодой человек, жили днем насущным, торопились, хватали жизнь кусками, что успевали до завтра. Под сладкое винцо, под граммофон… Сходились, расходились, легкость в нравах безграничная. Аборты бесконечные. Женщины осатанели. А если дети рождались, то, сами понимаете, бывало, не знали — чей ребенок родился. Когда нынче чума да завтра война, — что делают смертные?
Мне знакомы этот голос и это ухо. Однако, не в смысле «мы где-то встречались».
— Но в деревнях тогда жило больше народу, чем в городе. Какое там было сладкое винцо? — сказал я. Ухо дернулось.
— Ну да. Деревенские на фронте радовались еде, дома невиданной, тому, что на войне бывают выходные… Давили, корчили ту деревню, а потом она, изуродованная, на костылях, взяла да и в город переселилась. И не стало ни города, ни деревни, а сплошная семечная шелуха… Слияние, так сказать!
Мы помолчали, послушали других. Перед моими глазами вереницами проходили сельские жители, стесняющиеся того, что они сельские. Они обижаются, когда на концертах, которые устраивают им городские, поются протяжные песни про «ширь», да про «даль», да про труд. «Чем мы хуже людей?» Гуляя дома, они веселятся с быстрыми песнями про личную жизнь: про «Ванечку», про «разлучницу-подружку», там в снегах «мчатся тройки», после них, для лирической полноты застолья, могут уже и «березки зашуметь в России». Но это уже декаданс, об этом утром не вспоминают.
Переезжая при первой возможности в город, нервничая от тайн городского этикета, они возвращаются душой на родину исключительно на больших застольях, когда между последними ходками в «ларек» поют, заливаясь слезами: «снится мне деревня». Потом засыпают, и снится им что угодно, кроме… Скорей, Биверли-Хиллс им снится.
Читать дальше