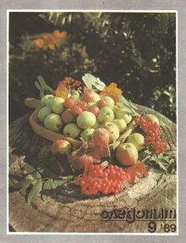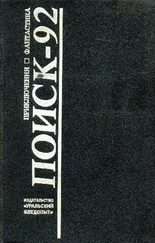Он сидел на завалинке среди новых приятелей, с наслаждением жевал жмых, от которого замечательно пахло свежим подсолнечным маслом. Мимо, подпрыгивая на ухабах, торопилась полуторка, таща за собой шлейф пыли, — в той же пыли были босые ноги мальчишек. Изредка с непросохших волос через щеку скатывалась капля, он ловил ее и растирал ладонью. Купанье среди прочего было хорошо еще и тем, что окатывало водичкой не только пропотевшее тело, но и истомленную душу, вымывало из нее беспокойство и угрюмость, растворяло обиды и позоры; он становился простым и диким и чувствовал себя зверьком, счастливым голодным зверьком.
На крыльце показалась Вера, она прошла вдоль завалинки, разглядывая мальчишек, остановилась перед ним и — ему показалось, строго и сердито — приказала:
— Пойдем.
Он решил, что она будет ругать его за тот нырок, и сразу покраснел, так как получалось, что она угадала, как ему этого хотелось; он шел за ней, расстроенный и заранее пристыженный. Когда вошли в дом, Вера сказала:
— Из города звонили: у тебя заболела мама. Как раз сейчас идет автобус, тебя подождут. Иди, оденься, забеги в столовую, тебя покормят без очереди. Давай по-быстрому.
Сказав это, она тут же повернулась и ушла. В спальне, одеваясь, и тремя минутами позже, в столовой, глотая поджидавший его суп, он все время дивился нелепости услышанной фразы: «Мама заболела». Она не могла заболеть — она давно болела, он уж и не помнил, когда она не болела. Он бы понял, если бы Вера сказала: «Маме стало хуже», хуже могло стать, хотя и хуже было уже некуда; но она сказала: «Заболела», и значит… Он гнал от себя это слово, которое уже гудело в нем и стояло перед глазами огромными литыми буквами, как те громады-цифры на призывных щитах возле Дворца пионеров, и висело над ним, как грозовая туча в полнеба.
В автобусе, кроме него, ехал только лагерный завхоз, и то, что он за всю дорогу ни разу не заговорил с мальчиком, тоже подсказывало ему ту не выговариваемую вслух разгадку.
При других обстоятельствах была бы маленькая радость в обилии свободных мест, он несколько раз пересел бы, чтобы поглазеть налево и направо, и на дорогу, летящую под капот, и на дорогу, убегающую обратно, в лагерь, он сполна насладился бы поездкой в пустом автобусе; теперь же он занял место в углу заднего сиденья, где немилосердно трясло, словно уже был мечен особой метой, не позволявшей ему искать удобств и приближаться к другим людям.
Они ехали и ехали, и город мучительно долго не начинался. В разрыве леса мелькали дома, заборы, возле приземистого фабричного здания дымила железная труба на растяжках, и казалось, что это уже город, но снова тек и тек вдоль тракта зубчатый строй елок, и так повторилось несколько раз. Наконец лес оборвался навсегда, пошли пустыри, горы навороченной глины, свалки; трижды пересекли железнодорожные пути; снова потянулись пустыри, затем возник многоэтажный дом на холме и груда изб у его подножия; аэродромное поле с застывшим рядом двукрылых самолетиков, снова избы, заборы, город, казалось, нарочно растянул свое непомерно длинное тело с тем, чтобы они никогда не приехали. Но вот по обе стороны тракта потянулись трех- и четырехэтажные фасады, тракт превратился в городскую улицу, возникли тротуары, замелькали редкие прохожие… Натужно взревнув, автобус обогнал троллейбус. Пассажиры бездумно глядели на них в окно. Это был город, и в нем, неведомое для всех этих идущих и едущих, произошло нечто, к чему он готовил себя все эти два часа автобусной тряски и никак не приготовил.
Автобус затормозил возле их дома, и он вышел, а перед тем никак не мог догадаться правильно нажать на рычаг, открывающий дверцу, пока шофер не помог; он вышел и остановился на тротуаре — внешнем, а был еще внутренний, и между ними — газон. Предстояло пересечь газон, войти в дом, подняться по мраморным ступеням, миновать два коридора и открыть дверь квартиры. Это следовало сделать каким-то особенным образом: может быть, идти мерным и строгим шагом, глядя прямо перед собой, и, наверное, двери надо открывать осторожно, беззвучно и тщательно прикрывать их за собой; а может быть, нужно было уже здесь, на тротуаре, начинать плакать.
И еще одно остановило его: тишина. То есть не тишина, а обычный облик улицы в ее тихие минуты: туда и сюда шли прохожие, одни молча, другие — негромко переговариваясь, никто из них, минуя его дом, не обращался к нему с тревожными взглядами, не останавливался, не скорбел лицом. Он понял, чего ждал: толпы у дома, толпы плачущих, рыдающих людей в черном. Никакой толпы не было. Возле парадного крыльца стоял мужчина, но стоял в спокойной позе, чуть сутулясь, заложив руки за спину и прислонившись к стене.
Читать дальше