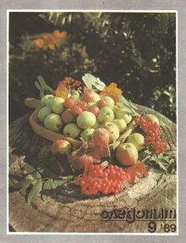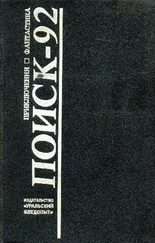— Что, строгий дядя? Напугал?
Ему никто не ответил.
— Не унывайте. Новый год не отменяется. Будем только внимательней. Ферштейн?
Он подсел к столу и стал разбирать еще не разрезанные газеты. Некоторые откладывал в стопку, потом унес ее во вторую комнату.
— Веселенькая жизнь, — вздохнула бабушка.
— Мы же не нарочно, — сказала сестра.
— Все, все! — закричал отец, возвращаясь. — Забыли. Не было. Давайте есть пирог.
Они уселись вокруг кухонного стола, бабушка налила чаю, пирог с яблочным повидлом, уложенный крест-накрест вытянутыми колбасками теста, был красив и вкусен, обстановка домашнего предновогоднего вечера помаленьку восстанавливалась. Но во всех движениях отца, во всем, что он делал — наливал себе вино в рюмку, откусывал от пирожного ломтя, заговаривал о чем-то — во всем было видно непроходящее возбуждение, как перед дальней дорогой, в которую одних берут, а других не берут, и между теми и этими ложится невидимая черта.
Тот газетный лоскут все еще лежал на обеденном столе, никто не мог решить, что с ним делать. Он лежал отдельно от всего остального, на углу, и свешивался через край. Мальчику со своего места была видна бровь и под ней спокойный внимательный глаз. Глаз смотрел на мальчика и повторял слова гостя: «Ну, ребята… С Новым годом!» А может быть, смотрел молча. Мальчику привиделось, что их гость идет сейчас где-то по улице в колыханье снежной пелены, залепляющей ему очки, лицо у него по-прежнему суровое, огорченное, он сокрушенно покачивает головой и мучительно размышляет, сказать или не сказать, и сквозь залепленные снегом очки всматривается в пелену снега в надежде увидеть подсказку.
Мальчик почему-то был уверен, что злосчастный газетный лист резал именно он, и резал именно нарочно, зная, что он делает. Это было уже вполне безосновательное воображение, и отчего оно возникло и укреплялось с каждой минутой, он не смог бы объяснить. Он пил сладкий чай, жевал вкусный бабушкин пирог и мысленно все резал и резал острыми ножницами скуластое усатое лицо с внимательными спокойными глазами.
Она все-таки появилась еще раз, после того, как прошла вся зима и половина весны, — в последнее воскресенье апреля. Это было вербное воскресенье, по улицам сновали старухи с веточками вербы, и за окнами виднелись ветки с пушистыми серыми комочками, вставленные в бутылки из-под молока.
По ночам лужи еще затягивало ледком, утром на траве горел иней, но солнце быстро слизывало его, съедало ледок, а железо на крыше подвала к полудню разогревалось, как летом. Отощавшие сугробы в тени дровяников рождали тихие струйки и ручейки, в середине двора соединявшиеся, и единым потоком они выкатывались через ворота на улицу. Малыши бегали вдоль ручья, гоняя щепки, подталкивая их на мелководье посиневшими от ледяной воды пальчиками.
Рыжая появилась, когда мальчик с приятелями играл у стены в ту самую игру, которую она когда-то привезла из Ташкента. Как раз была его очередь, и он очень удачно вколачивал мяч в стенку, как бы бодая его, а рядом подсчитывали его удары, и тут раздался ее голос. Он почувствовал, как уши у него покраснели от одного звука ее голоса, и как хорошо, что он мог не оборачиваться и продолжать бодать мяч. Он еще более старательно прицеливался, чтобы как можно дольше продержаться; ему казалось, все знают, что зимой он вручил ей записку и не получил ответа, и с любопытством ждут, как он себя поведет.
Вскоре он все-таки промахнулся, мяч пролетел мимо, попал в ручей, поток завертел его и понес к воротам. Мальчик побежал догонять и выловил возле самых ворот. Это было удачно. С расстояния в двадцать шагов он мог глядеть на нее — он и поглядел. На ней было новое пальто в черно-красную клетку, чуть более длинное, чем надо, но, наверное, оно ей очень нравилось; разговаривая, она несколько раз принималась кружиться, и пальто летало вокруг ее ног.
Он глядел на нее и медленно возвращался, подбрасывая мокрый мячик. Все, кроме него, непринужденно болтали. Она, когда он подошел, рассеянно кивнула ему, он же ничего не ответил. Он стоял и размышлял, заметили ли остальные, что он не заговорил с ней.
Рыжая девочка шла, оказывается, во Дворец пионеров на какой-то там утренник и зашла по пути, просто так. Рассказав о себе, о своем новом доме и дворе, она почему-то не поинтересовалась никакими событиями, которые могли произойти здесь за последние месяцы, наверное, эти новости были ей уже не интересны. Кто-то захотел продолжить игру и предложил ей мяч, но она отказалась от своей же игры; видимо, теперь она играла в другие игры. Ему казалось, что его неучастие в разговоре становится все более заметным и окончательно разоблачает его. Ему хотелось уйти, но уйти — значило совсем признаться, он и стоял дурак дураком, украдкой посматривая на нее, желая и боясь встретиться с ней взглядом и моля неизвестно кого освободить его от этой пытки. Мольба была услышана: на крыльце появилась бабушка и велела ему сходить за молоком.
Читать дальше