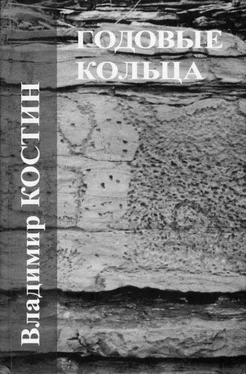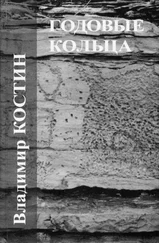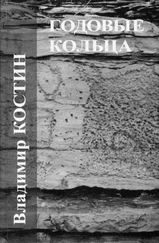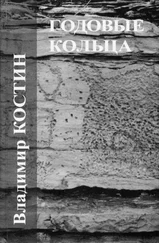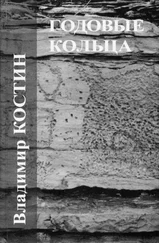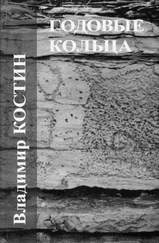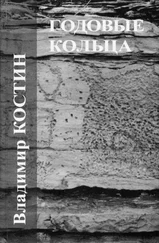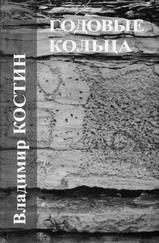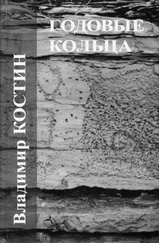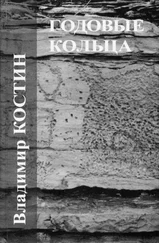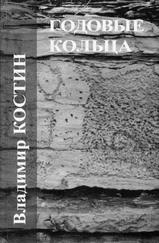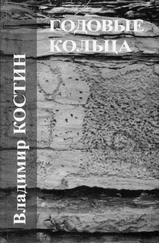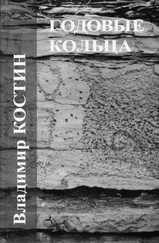Утром, после завтрака, при багровом блеске восхода, дыша чутким воздухом, доносящим громы сражений со всех четырех сторон света, он признался в любви медсестре Розе Ахметшиной, сказав неловкие, запальчивые слова. И получил такой ответ, что любовь взаимная. Их видели бойцы, и они договорились поцеловаться в сумерки, на том же месте. День тянулся и тянулся, и на их пятачке войны сегодня было тихо, обоим казалось, что кто-то свыше узнал, что такое произошло, что предстоит, и старался не расплескать эти полные чаши. Они с удовольствием занимались своими делами, перед Иваном плыло лицо Розы, перед Розой — лицо Ивана.
И надо же, ближе к вечеру — несколько выстрелов из немецкого карабина, На ближнем хуторе, за дубками — приблудившиеся немцы. Оттуда прибежала местная ягодка-бауэрша, осмелевшая от того, что ее никто не собирался насиловать. Тараторила: там несколько стариков-ополченцев, поговорите с ними, они сдадутся.
Хутор окружили, и Веня Семенов, уроженец города Энгельса, кричал им на своем древнем немецком: эй, фрицы! Дедушки! Сдавайтесь, вам ничего не будет, старые ослы!
«Старые ослы» — было удачным ходом. Бормотали в развалинах хутора недолго, и вот уже дребезжащий тенор ответил: не стреляйте, мы сдаемся!
Имея полное обоснованное доверие, бойцы встали, а Иван, парторг полка, верный своим принципам, сбросил шинель и пошел к немцам. Это было неправильно. Никто его не окликнул, не предостерег, хотя разум и опыт таких «пардонов» подсказывал: нельзя полагаться на авось, часто сдаются все за вычетом одного. Бывает, бывает наваждение, Иван через года признавался: я же, так сказать, токовал весь день, одурел от счастья.
Когда он подошел к разрушенной каменной ограде, навстречу ему вышла пара дряхлых человеческих одров с вытаращенными от страха глазами.
И вдруг щелкнул далекий выстрел, пуля с воем, на излете, ткнулась в каменную стенку метрах в пяти от них. И один из одров в панике вскинул карабин и в упор выпалил в Ивана, и попал в грудь, навылет. (Кто стрелял?)
Бойцы ответили — сначала взводным матом, а потом очередями. Но мгновенья, отпущенного на мат, хватило, чтобы немцы спрятались за оградой.
И тут, отмахиваясь от выстрелов, как от комаров, к хутору пошла Роза, в своих сияющих сапожках и отутюженной форме. Наступила тишина. Роза подошла к Ивану, взвалила его на себя и понесла к своим. Опомнившись, бойцы побежали ей навстречу.
А из развалин вышел тот самый старик, бросил на землю карабин, сел на камень и громко, трубно зарыдал. Никто в него не выстрелил. Через забор полетели карабины, немцы выходили с поднятыми руками, но решительно, готовые умереть. Им повезло, они выжили.
Иван похолодел, побелел, пульс не прощупывался. Полковник-хирург, не глядя на Розу, не отвечая на ее вопросы, велел вывести ее из лазарета, очень грубо, чем давал понять: амба! Но Роза не ушла, она держала Ивана за голову и твердила: живи, живи, просыпайся. Его зашивали — безнадежно, он каменел, а она твердила: просыпайся, открывай глаза. Без двух или трех двенадцать, когда хирург хотел махнуть рукой, Роза поцеловала Ивана в какой-то заветный раз, и он на глазах порозовел, вздохнул и открыл свои ясные очи. Она его вытащила, он выжил.
Он заснул, а она наконец-то почувствовала острую боль. Таща его, она сломала безымянный палец на правой руке. Он срастется очень причудливо, огрызком поросячьего хвостика. Обручальное кольцо пришлось покупать на два размера больше и приплющивать на пальце, чтоб не слетело.
Эта история вспоминалась в их доме за каждым застольем, да еще иногда в чужих домах, и если не сразу, то с охмелением неизбежно. Роза показывала сломанный палец, а Ивану (гораздо реже, он стеснялся) приходилось расстегивать рубашку и закидывать галстук на шею, демонстрируя шрам на груди, а как-то и на спине, где «выход» был внушительнее и походил на пион. Надо честно сказать, история страшно надоела всем, и Огаревым настолько же, тем паче, что с годами ее устало доставали из рукава тогда, когда иссякали допустимые темы разговоров у людей, и без того все друг о друге знавших, но мудро помалкивавших о сегодняшних, куда как интереснейших фабулах своей жизни.
Теперь мы встречались с ними часто. Музонька была настолько погружена в Мишин мир, в его заботы, что по большому счету превращалась в его блистательного дублера, его окультуренный женский вариант. Мы гадали, какой была Музонька до Миши? Знакомы ли ей рассеянность, любовь к сладким пряникам и мировая скорбь?
Читать дальше