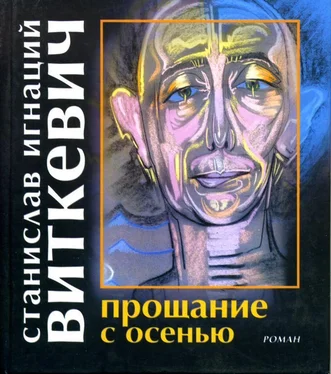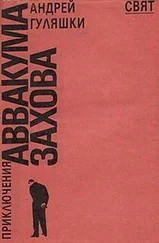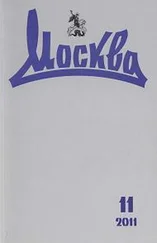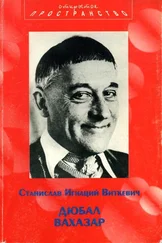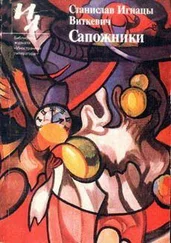«По местам!» — крикнул Пурсель. Если бы эти слова достигли его слуха на тридцать секунд ранее, возможно, он лишился бы чувств. Теперь же они, как большая доза стрихнина, сжали его изнутри еще сильнее, придав бычью бесстыжую упругость.
— По команде «раз» стреляет князь Препудрех, на «два» — господин Базакбал, — слышался чей-то голос, но ни одна из воюющих сторон не верила еще в возможность этого бессмысленного факта.
— Разумеется, насколько буду в состоянии, — вполголоса очень весело сказал Атаназий, становясь к барьеру.
Солнце у него было с правой стороны, он ощущал его упоительное живое тепло — как из печи, только находящейся за биллионы километров. Впервые дошло до него, что оно греет так, как и все прочее, и он замер с мыслью о громаде масштабов: величине и расстоянии. О, если бы очарование этого мгновения могло длиться вечно! Какой бы чудесной стала тогда жизнь! Зося и Геля внезапно смешались в одно с чувством опьянения теплом солнца и голубизной неба. Безличностный, блаженно расцвеченный комплекс элементов и ничто более — «стоял» или парил в чистом бытии, «durée pure» [24] чистая длительность (фр.).
этого осла Бергсона — мелькнуло у него в сознании. Он не знал даже начала этой мысли. То был момент пригрезившейся Хвистеку, так им (черт знает зачем) называемой «действительности элементарных впечатлений», или просто уход на «дальний план» («unbemerkter Hintergrund» Корнелиуса) — снова понятия переместились в виде индивидуальных, непонятных для других знаков — непосредственно данного единства личности. Выпштык, учитель с детских лет, эхом отзывался во всех философских поползновениях. Довольно! Он увидел перед собой скривившегося от солнечного света Препудреха, который встал к нему боком и медленно поднимал руку с пистолетом. Атаназий не мог поверить, что перед ним именно тот, хорошо ему знакомый и слегка им презираемый Препудрех. «Еще выстрелит, идиот, до команды. Рука у него дрожит. Вижу, вижу», — радостно прошептал он.
Но Препудрех внезапно изменился. Сейчас он был прекрасен, его глаза блестели каким-то неведомым триумфом. В сущности, он и был таким, каким выглядел. Момент была чудесным. Он чувствовал присутствие Гели в мирозданье: он вдыхал ее, воплощенную в постепенно теплевшем воздухе, поглощал ее взглядом в ржавых красках осени и миндальной (в смысле вкуса) голубизне неба, чувствовал ее в легком дуновении прохладного влажного ветерка, тянувшего с севера, со стороны леска, полного запахов прелой листвы и какой-то чуть ли не огуречной, но все-таки трупной свежести. Остановить, остановить все это! «Verweile doch, du bist so schön» [25] Здесь: «Продлись мгновенье, ты прекрасно» (нем.).
— или что-то в этом роде. «Цельсь!» — раздался голос Пурселя. «Эль...» — глуповато-весело повторило эхо, долетая вместе с холодным дуновением с правой стороны. Князь поднял пистолет и без дрожи начал опускать его на линию противника: миновал голову, шею, ключицу... он был славным по сути малым и даже в этот последний момент не знал, во что он должен был стрелять.
Атаназия внезапно охватил пронизывающий страх — какой-то жидкий, расслабляющий, паскудный. Ему показалось, что он кричит, хотя вокруг была мертвая тишина. Ему вспомнились бой, и первые разрывы снарядов, и желание убежать тогда вечером после целого дня канонады. Только там было чуть иначе — там преимущество имели некие великие вещи — может, псевдовеликие, но тем не менее... Ему вспомнился стишок:
Человек страдает во вселенной Божьей
Не напрасно и не зря, только все же, все же...
Здесь проблема сохранения чести была поставлена в более чистой форме. «Да какое мне дело до ваших глупых понятий о чести! Я жить хочу!» — безголосо кричало в нем глупое пугливое животное. Он увидел вдали глаза Зоси и последним усилием воли удержал уже потенциально убегавшее тело. Однако голова осталась на месте, а перед глазами все ниже опускалось дуло князева пистолета. «Я избежал этого на фронте — а теперь вот тебе на!» — подумал он и почувствовал, что пропал.
— Огонь, — услышали оба. Каждый в своем навечно закрытом мире.
Страшный (морально страшный) гул — воистину, это был какой-то выхлоп из большой курительной трубки — и Атаназий, который в последний момент развернулся к князю несколько фронтом, почувствовал, будто кто-то без боли саданул его палкой в правую ключицу. Он стал поворачиваться направо (в повороте выстрелил, скользяще ранив Препудреха в мышцу левого плеча) и странным пируэтом упал навзничь, головой к противнику. Увидел небо — далекое, бескрайнее, как будто «не такое» — и почувствовал, как что-то сдавило его дыхание, само дыхание, а не какую-то часть тела. Он хотел выплюнуть это, выбросить из себя. Что-то чуждое было в нем, что-то чуждое творилось в нем, а назревало еще нечто худшее. Как раз то самое! Теперь он может умереть, а может выжить — чем черт не шутит! Его начали раздирать надежда и отчаяние, надежда и отчаяние — все быстрее и быстрее. Он вдруг ощутил, что какая-то горячая гадость с металлическим вкусом заполнила его горло — он зашелся в кашле. Холодный пот, страх, тошнота, темнота в глазах (как странно исчезал мир в выпученных зенках) и небытие, согнутое в три погибели, отупевшее от ужаса — но чьего? Он потерял сознание скорее от страха, а не от полученной раны. Но в последнее мгновение перед ним промелькнул где-то в черных нагромождениях нарастающего, разбухающего небытия образ Гели, и он почувствовал, что она победила, что этим поединком он связан теперь с ней даже за гробовой чертой. А потом Зося, но уже составляющая единство с этим небытием, и конец.
Читать дальше