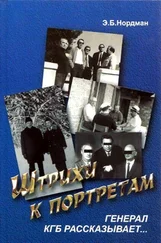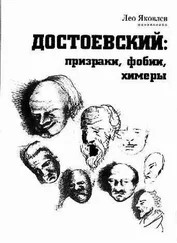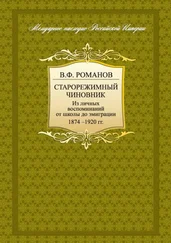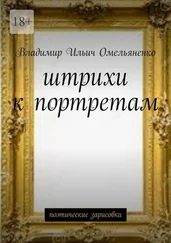И он оказался прав!
Тарле был сыном своего времени, и нет смысла подгонять его взгляды под наши сегодняшние представления. Тем более, что в этих своих взглядах «государственника» он был не одинок и в «высших слоях» отнюдь не «советской» интеллигенции, о чем, например, свидетельствует личный и очень откровенный дневник гениального ученого XX века В. И. Вернадского: «03.10.39 …захват западных областей Украины и Белоруссии всеми одобрен… политика Сталина-Молотова — реальна, и мне кажется правильной государственно-русской» («Дружба народов», 1992. № 11–12. С. 25). Не вызывает сомнений Вернадского и дружба Сталина и Гитлера. 12.12.39 г. он отмечает в дневнике запрещение и изъятие книги «Против фашистской фальсификации истории», где была опубликована яркая антифашистская статья Тарле «Восточное пространство и фашистская геополитика». «Тарле пересолил», — отмечает для себя Вернадский.
Несколько слов о посмертной судьбе Тарле. Пока был у власти Хрущев, книги Тарле продолжали выходить в стране и за рубежом (Прага, Будапешт, Париж, Варшава, Милан, Берлин, Бухарест, Рим — такова география его первых посмертных изданий). В 1957–1962 гг. появилось даже его 12-томное собрание сочинений, а затем наступило молчание, о котором говорилось в начале этих заметок. В редакциях научной исторической периодики появился даже специфический термин: «журнал (сборник) перетарлен» — символ труднопроходимости через цензуру, если фамилия «Тарле» повторялась в нем несколько раз. Это молчание было тем более удивительно, что в эти годы на больших и малых государственных должностях в стране утвердились его бывшие студенты, а патриотический характер многих его книг вроде бы отвечал общим «установкам». С большим трудом и опозданием вышла биография Тарле, готовившаяся к его столетию, в то же время в ФРГ жизнеописание Тарле (автор Э. Хеш) вышло двумя изданиями. Все это дает основание предположить наличие в эти годы в стране сверхвлиятельного лица, преисполненного ненависти к Тарле. Скорее всего, таким человеком был Суслов, затаивший на него зло за провал «затеи» с разоблачением историков-«космополитов» и к тому же патологический антисемит.
Воспитанники же «сусловской исторической школы», даже доброжелательно настроенные по отношению к Е. В. Тарле, видимо все же не могут преодолеть в себе специфические «позывы» сусловского «учения», выражающиеся, в частности, в желании хоть во что-нибудь вымазать великого историка XX века. Так, например, Б. С. Каганович не удержался от «общих оценок» последних двух десятилетий жизни историка и в своем заключении по этому вопросу «завершил» его вклад в науку «Нашествием Наполеона на Россию», после чего, по мнению Кагановича, у Тарле наступил «период упадка, когда он написал много недостойного своего ума и таланта» (Каганович Б. С. К биографии Е. В. Тарле; конец 20-х — начало 30-х годов // Отечественная история. М., 1993. № 4. С. 95).
Заметим, что к числу «недостойных», как можно судить по библиографии Тарле, Каганович отнес такое классическое историческое повествование, как двухтомная монография «Крымская война», до сих пор не имеющая себе равных в исследовании этой темы и переизданная в нескольких странах мира, и как «Северная война», которую и в 80-х, и в 90-х годах усердно пересказывают историки-«сусловцы» (правда, «забывая» сослаться на Тарле). Был еще ряд работ по истории екатерининской эпохи и истории флота, сохранивших свою свежесть и по сей день. Даже написанный в начале 50-х «юбилейный» очерк «Бородино», опубликованный в 1962 году посмертно, содержит больше «счастливых мыслей» и архивных открытий, чем все последующие сочинения всякого рода жилиных на эту же тему. Таким образом, эпитет «недостойный» с точки зрения человека 90-х годов мог бы быть отнесен только к его публицистике сталинистского толка военных и послевоенных дат, но об истинном отношении Тарле к Сталину уже подробно говорилось выше, и поэтому нет оснований полагать, что в своем понимании исторической роли Сталина он был неискренен.
Эти заметки мне следовало написать давно, но я никогда не забывал, как Тарле мне однажды сказал: «Я, к сожалению, не ощущаю себя евреем». Естественно, что он имел в виду не этнос, а духовный мир. Эти слова я воспринял как его волю и ждал, пока ее нарушат другие. События же последних лет убеждали меня в том, что это произойдет непременно. И действительно: недавно намеки на неясность происхождения Тарле в сочетании с грязными предположениями о причинах его успехов прозвучали на страницах такого специфического издания, как «Литературная Россия».
Читать дальше