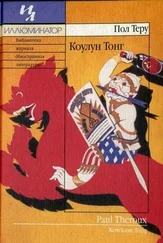— Надеюсь, ему полегчает, — произнес я.
Отец де Восс, будто прочитав мои мысли, сказал:
— Он не вернется.
Из деревни донесся дикий вопль и вспышка света, как будто в костер бросили огромную охапку сухой соломы или маисовой шелухи и она занялась вся разом.
— Они никогда не возвращаются.
В этот миг казалось, что жизнь в Мойо сосредоточена там, внизу, в деревне прокаженных, и барабаны отбивали неровный, сбивчивый ритм этой жизни — стучало не дерево о дерево, а живая кровь в висках.
Брат Пит штопал при свете лампы, отец де Восс сидел рядом, и тени падали ему на лицо. В любом другом месте он бы читал, писал письма, рассматривал картинки. Но он жил в Мойо, пустом и голом, как сама саванна. Священники выглядели как старая супружеская пара.
Я пожелал им спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Там я подошел к окну, взволнованный, нетерпеливый, готовый нырнуть во тьму. За тьмой начинались деревья, освещенные огнем костра. И на фоне пламени каждая ветка проступала черно и четко.
Выскользнув из дома с заднего крыльца, я устремился вниз без дороги — на огонь и гром барабанов.
Немногочисленные зрители образовали редкий круг, а остальные — почти вся деревня — танцевали: женщины с одной стороны, мужчины с другой; они шаркали, притопывали, трясли головами, размахивали руками, что-то выкрикивали. И тяжелая их поступь отдавалась в каждой клетке моего тела, словно танцевали прямо на мне.
Мужчины хлопали в ладоши, а женщины гортанными, пронзительными голосами выводили какую-то мелодию вроде страшного и победного военного клича. Вырезанных из дерева масок не было, зато были раскрашенные лица, самым, впрочем, страшным из которых оказалось лицо, обсыпанное белой мукой. Этот прокаженный нацепил еще и белую простыню и держал впереди себя распятие. Женщина, что танцевала прямо против него, тоже была замотана в простыню. Выходило, священник и монахиня извиваются в двусмысленном танце, не то пародии на половой акт, не то настоящей ритуальной пляске, не то дикой смеси того и другого.
Прокаженные танцевали на своих омертвелых, толстых от бинтов ногах, издавая звуки гулкие, как удары деревяшек. Мальчишки, в собачьих или обезьяньих шелудивых шкурах, а в остальном совершенно голые, бегали на четвереньках среди вопящей и топочущей толпы.
Из тени, со стороны хижин, появилась другая группа. Эти люди тащили к костру какое-то сооружение вроде кукольного домика. Разглядев грубое подобие пирамидального купола, я понял, что это церковь. Домик покоился на небольшой платформе, а платформа опиралась на шесты, и получалось что-то вроде высоких носилок.
Стало ясно, что тут есть сюжет и я пропустил завязку. Танцевали-то уже больше часа. Я слышал барабаны и во время, и после ужина, когда тихо сидел в обители со священниками. Танец меж тем достиг такого накала, таких страстей, что в круг впрыгнули даже те, кто до этого стоял поодаль. И уже не различить было танцоров и бывших зрителей, все двигались, топали, хлопали и, содрав с себя одежду, размахивали лохмотьями.
Беснующуюся процессию возглавляли замотанные в простыни «монах» и «монашка». Сразу за ними несли шаткую церковь, сделанную из бумаги и палок. Не то избыточное почтение, не то искусное издевательство.
Многих танцоров я узнал: я познакомился с этими людьми за несколько недель моей жизни в Мойо. И странно было видеть их такими активными, подвижными. Прокаженный, переодетый монахом, походил на Джонсона, который посещал мои уроки английского. Сейчас он держал в руках книгу, не Библию и не требник, но идея была ясна и так. Он изображал отца Тушета. Зачем уж им понадобилось разыгрывать сцены из его жизни, не знаю, но именно это они и делали. «Отец Тушет» крестил мальчика, переодетого в собаку. Читал, выкатив глаза, свою «священную книгу». Держался высокомерно. Отвергал флиртующую «монашку». И все это — под бой барабанов, которые служили резким, сумбурным комментарием к происходящему.
Амину я нашел легко, чуть в стороне от пляшущих, едва ли не бьющихся в истерике прокаженных. Она стояла в тени тростниковой крыши, но лицо ее было высвечено пламенем. Бабка безучастно, как каменная, стояла позади, а Амина кивала и хлопала в такт звучному, гулкому ритму.
Поднятая пыль клубилась в свете костра, тела танцующих дергались и отбрасывали на листву ломаные тени, там и сям проткнутые торчащими ветками. Некоторые танцоры почти рыдали, снедаемые неизъяснимой мукой. Я вдруг понял, что передо мной не отдельные пляшущие люди, а цельный организм — с единой волей и единым огромным, непомерно раздутым телом. И это существо дергалось в корчах, заполняя собой все пространство.
Читать дальше