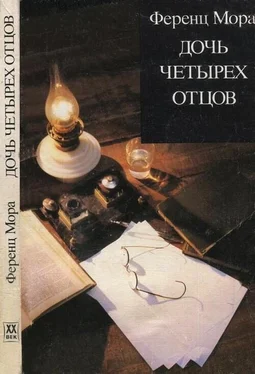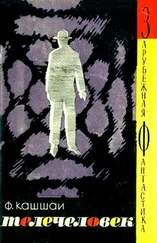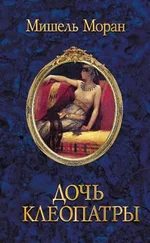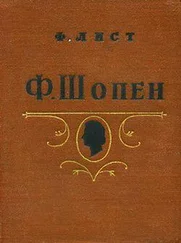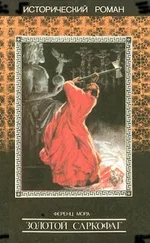Это тоже венгерская специфика: ремесло пророка переходит от отца к сыну, как профессорское звание. У ветхозаветных пророков, насколько я помню, с сыновьями дела обстояли сложнее.
— А сами-то вы духов видали?
— Да что вы, — Мари снисходительно улыбнулась моей наивности. — Куды мне! Мне его карты указали.
— Кого «его»? Духа?
— Не духа, а его. Ну того, о ком духи сказывали.; Вышел мне брунет, стройный, красивый, знатного роду.
На это я ничего не ответил, так как успел усвоить важный постулат деревенской философии: «пусть каждый верит во что ему нравится». Эта бедная Мари живет ожиданием красивого брюнета знатного рода. Так пускай себе ждет, пока не обретет его в докторе, ибо так или иначе этим кончится. В конце концов, он вполне сойдет за брюнета, особенно пока краска свежая.
Дождь прекратился, и капало теперь только с крыши. В приоткрытую дверь заглядывал кусочек радуги, из камышей доносилось буйно-веселое кваканье лягушек. Маленькие водяные квакушки радовались свалившейся с неба субсидии и с воодушевлением возвещали: «Вакса-вакса-квакс!»
На дороге показался поп, он шел к нам, прыгая через разлившиеся лужи.
— Иди скорее, — прокричал он, сложив ладони рупором, — а не то пельмени разварятся!
— Ну, дай вам бог, милая! — Я помахал женщине на прощанье.
Она медленно поднялась, изящным движением оправила влажное платье, посмотрела на меня в некоторой задумчивости и протянула мне руку:
— Спасибо вам за доброту вашу.
Я тут же подумал, что женщине наверняка вспомнился художник. Только он и мог приучить ее к рукопожатию. Вообще-то у деревенских баб эта форма приветствия не в моде. Вторая моя мысль была не столько мысль, сколько откровение. «Спасибо вам за доброту вашу». Художник досягнет героини романа не проторенным путем чувственности, но потаенными тропками души. Деревенская баба, типичная «Мари», ведущая тот же животный образ жизни, что все прочие «Мари». Ей неведомо, что в жизни бывает что-то кроме ругани и поцелуев, отдающих чесноком. Никогда не гладила ее волос нежная рука, никогда не касался лба эфирный лепесток поцелуя, никогда не окутывал шелком нежный взгляд. Все это дал ей художник, он распахнул перед нею златые врата неведомого мира. И вот Мари — уже не Мари, а Мария, невзрачная травка обвилась вокруг ромашек и одуванчиков, душа, подобная гелиотропу, устремилась ввысь к нежности, красоте и солнечному сиянию.
— Это тебе, — поп протянул мне письмо. — Ненастье загнало меня на почту, Андялка просила тебе передать, вдруг что-нибудь срочное.
Увы, это оказалось не письмо, а открытка! Издатель просил меня не забывать о сроках! Он надеялся, что вещь будет достаточно драматична и динамична, в соответствии с вкусами нашей публики, а также заверял в совершеннейшем своем почтении и т. д. и т. п.
Черт бы побрал того, кто выдумал эти открытки! А заодно и тех, кто ими пользуется! Ну можно ли было ожидать от издателя такой бестактности — и экономии-то всего на одну крону пятьдесят филлеров! Спасибо и на том, что в открытке говорится о рукописи вообще, а не о рукописи романа.
Интересно, поп прочел ее? Да нет, не думаю, он нелюбопытен. А вот за мадемуазель Андялку не поручусь. Нигде не сказано, что почтальонши должны быть лишены естественной любознательности. Ну да ладно, еще не все потеряно.
— Ах да, — я сунул открытку в карман, — осенью должна выйти моя книга об известковых сосудах бронзового века, издатель торопит с рукописью.
— Да что ты говоришь? Так это же великолепно, — мой дорогой Фидель любезничал что было сил. Вряд ли ему когда-либо приходилось слышать об известковых сосудах. — Фу-ты, сколько дряни под ногами! — (Идти действительно было нелегко: трава под ногами кишела сотнями крошечных лягушат.) — А рукопись-то готова?
— Как же, готова, черта с два! Знаешь, я думал написать ее здесь, в тишине и покое, но время течет как вода сквозь пальцы, а я все никак не возьмусь за дело.
— Так ведь до осени еще полно времени. Это просто замечательно, дружище, что в моем приходе будет написана книга о бронзовых сосудах известкового века. Мы повесим на память о тебе мраморную доску. В этой деревне за время ее существования не было написано ни одной книги, кроме налоговых.
— Но, Фидель, милый, не думаешь же ты, что я собираюсь сидеть у тебя на шее до осени? — Я беззастенчиво играл в застенчивого гостя.
Голубые кроткие глаза попа смотрели на меня так открыто и бесхитростно, что мне и вправду сделалось стыдно. (Выходит, человека может сделать лживым не только любовь, но и сочинительство. Ни то, ни другое занятие не способствует исправлению нравов.)
Читать дальше