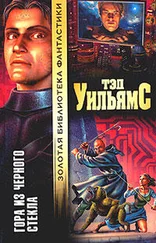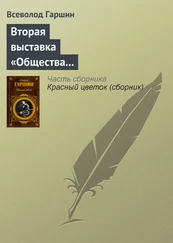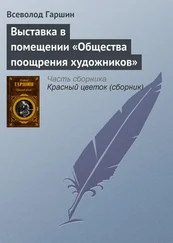Она, надо думать, не догадывалась, потому что изо всех сил старалась дать ему понять, что внезапный ток, пробежавший между ними, был совершенно случаен, а скорее всего, его вообще не было.
Прощаясь, Инна произнесла низким глубоким голосом, каким, должно быть, делаются признания:
— Если Севку не выпустят, я не знаю, что сделаю. Я такой скандал подыму, все «голоса» только об этом и будут говорить. Ты меня еще не знаешь.
От этих слов у Вадима мурашки побежали по спине. Было горько от догадки, да чего там, от трезвой уверенности, что о нем самом, случись с ним похожая беда, никто не вымолвит таких вот беззаветных, отчаянных слов.
Домой в Дмитровский он побрел, растравляя в душе эту глупую обиду, отраду в ней находя и чуть ли не завидуя своему другу, который, судя по всему, томился в эти минуты совсем неподалеку, в подвалах знаменитой внутренней тюрьмы. Мысль о том, что все совсем рядом — свобода и несвобода, осенние пленительные бульвары и каменное узилище, сентябрьские лирические прогулки и обязанность лежать на спине, вытянув руки поверх солдатского серого одеяла, беспомощное соображение о том, что граница между обоими этими мирами призрачна и несущественна, вновь потрясли Вадима. И как бы прояснили мозг, потому что с рельефной объективностью он вдруг понял, что послужило причиной Севкиного ареста. Как всегда в подобных случаях, он даже подивился прежней своей недогадливости, настолько очевидным представлялся ему теперь этот якобы криминальный казус.
Начало минувшего августа вспомнилось ему, жара, перемежаемая грозами, праздничная суета в Москве, которая только и говорила, что о двух одновременно открывшихся выставках — об американской в Сокольниках и о чехословацкой в Манеже.
Разумеется, американская промышленная экспозиция была главной сенсацией с ее длинными лакированными автомобилями, с белыми пластиковыми кухнями, с пепси-колой, попробовать которую тянулся многокилометровый хвост, с джазом, с трубами и саксофонами надувших щеки и выкативших белки глаз негров, а также с гидами, изъяснявшимися по-русски, — коротко остриженными, зачастую прыщеватыми молодыми людьми в териленовых немнущихся брючатах и в голубых рубашечках, в распахнутых воротах которых виднелись белые футболки. Эти самые ребята одновременно интриговали и настораживали народ — своею общительностью, русским, хохлацким и еврейским происхождением, Бог их знает в самом деле, каким образом они или их преподобные родители оказались за океаном, а более всего своей манерой не только рассказывать, сколько задавать вопросы обо всем на свете: о зарплате, о разводах, о том, в какой очередности убираются в квартирах места общего пользования…
Выставка чешского стекла, надо думать, неспроста была приурочена ко времени открытия американской национальной выставки, тут был тонкий расчет на неизбежную конкуренцию, на необходимость отвлечь часть публики от кухонных комбайнов и цветных телевизоров и очаровать ее мифическим мерцанием богемского хрусталя, прихотливой пластикой самых обыденных и самых невероятных сосудов, хрупкой, сияющей, сверкающей, изменчивой атмосферой стекольной сказки.
Что ж, надо признать, что этот политический расчет оправдался: Манеж с утра до вечера был захлестнут двойной, тройной петлей нескончаемой очереди. Духовным, воспитанным на преклонении перед искусством москвичам это царство хрустальных граней и звонов льстило подчас больше, нежели прагматическая американская ставка на комфорт и потребительское изобилие.
Эта мысль пришла Вадиму в голову, когда из волшебного полумрака Манежа он вышел на жаркую, суетливую, потную улицу, радуясь высоте собственных запросов, он отметил, что американскую выставку покидал в смятении растравленной зависти, перемешанной с нехорошим чувством обиды, а с этой уносил торжественно-восхищенную скуку, в которой стыдно было признаться самому себе, как после посещения академического музея либо консерватории.
Путь его лежал к Толику Барканову, который под сокращение вооруженных сил не попал, но зато за успехи в боевой и политической подготовке был награжден краткосрочным семидневным отпуском. По случаю завершения отпуска в этот жаркий августовский день в полуподвальной баркановской комнате, где окно выходило в кирпичную выщербленную стену, собирались друзья.
Общество сошлось почти то же самое, что и три года назад в канун проводов, — одноклассники, соседи по двору, приятели по яхт-клубу в Пестове, девушек было поменьше, чем прежде, многие, надо думать, повыскакивали замуж и позабыли своего разбитного, лихого приятеля. Ничего, и без обилия подруг было весело. Толик, в парадной белой робе, уже не наголо остриженный, а вполне по моде, царил за столом, уставленным молодой картошкой, посыпанной укропом, грубо нарезанными огурцами и помидорами, политыми подсолнечным маслом, и водочными бутылками за двадцать один двадцать; пили за седую Балтику, за линкор «Ладога», бывший «Адмирал Дениц», полученный у побежденного врага в качестве репарации, за высокую мужскую дружбу — «Стакан вина я пью за старого товарища, а ты, дружище, выпей за меня!» — за боевых подруг, само собою, лукавым, настойчивым глазом Толик как бы приглашал то одну, то другую из гостий вспомнить о золотых временах незабвенной юности.
Читать дальше