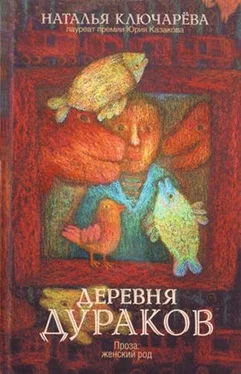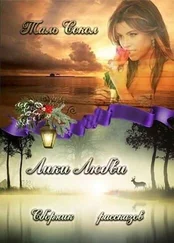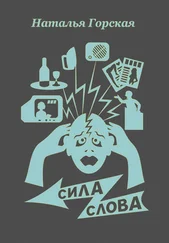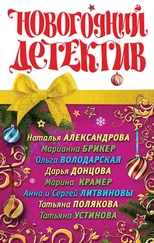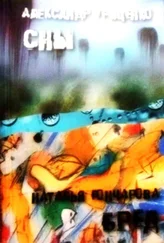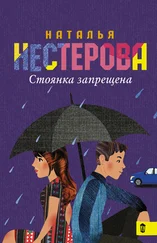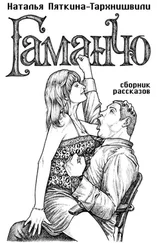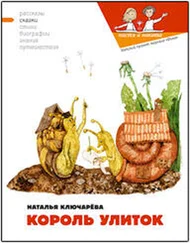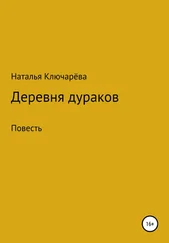– Вам тут работать не страшно? – спрашиваю я заведующую музеем Любовь Третьякову.
– Первое время было не по себе, – откликается она. – Я все ходила и твердила: ты на свободе, тебя здесь никто не держит, ты можешь уйти в любой момент. Теперь привыкла. Но иногда все равно находит.
На меня в тот день находило еще раз: во время экскурсии, когда меня – для наглядности – на одну бесконечную минуту заперли в карцере внутренней тюрьмы, где держали (порой по полгода) особо опасных зеков, например, автора «Хроники текущих событий» Сергея Ковалева.
Хмурый свет предзимнего дня едва пробивался сквозь двойные решетки. Температура – почти как на улице. Из мебели – бетонный стол и деревянные нары, на которых спали прямо так, без матрасов и тюфяков. Все выкрашено казенной синей краской с застывшими подтеками, от которых почему-то особенно тошно.
Там, в штрафном изоляторе, я поняла: источник моего страха не прошлое, не генетическая память, не излучение места, пропитанного человеческим страданием, а будущее. Нет уверенности, что всё закончилось, что это музейное «как будто» уже никогда не обернется ничьей реальностью. Попадая в зону, против воли примеряешь ее на себя, и не потому что «от тюрьмы и от сумы», а из-за отсутствия ощущения исторической завершенности.
Когда научный сотрудник музея Олег Нечаев с грохотом отпер синюю дверь карцера, я спросила его о том же:
– Как вы думаете, это может повториться?
– Точь-в-точь как было, наверное, нет. Но история насилия человека над человеком, разумеется, не закончилась. И возможно, будет еще страшней. Если мы не помешаем, – ответил Олег.
И добавил, что преодолеть тоталитарный сценарий можно только в детях. Люди, воспитанные в советской системе координат, так в ней и останутся. За редкими исключениями.
– Много лет я собираю устные свидетельства бывших политзаключенных, – рассказывал Олег, когда мы шли по темному тюремному коридору. – Это тяжелое испытание. И дело не в том, что они пережили, а в их оценке случившегося. Стоит мне заикнуться о преступлениях советской власти – почти все начинают возмущаться. Какие преступления? У нас была великая эпоха! И ладно бы кто другой, но это говорят люди, которые по десять-двадцать лет провели в нечеловеческих условиях, полили потом и кровью стройки коммунизма, чудом выжили. А теперь они искренне ностальгируют по тем временам, по колбасе за два двадцать, дисциплине и первомайским демонстрациям. Уму непостижимо!
– Да нет, тут как раз всё понятно, – возразила Татьяна Георгиевна Курсина, услышавшая обрывок нашего разговора. – Люди предпочитают отрицать очевидное, даже то, чему сами были свидетелями. Ведь правда – страшно неудобная штука: она может вдребезги разрушить твое представление о мире, заставить всё начать с нуля, а в зрелом возрасте у многих на это просто нет сил… Я вот, например, всю жизнь рассказывала студентам, что в Советском Союзе не было политических репрессий. И вдруг стали открываться факты. И оказалось, всё это было, прямо здесь, под боком, в родной Пермской области. То есть я всю жизнь врала. Врала своим студентам, глядя им в глаза. Я не знала, как дальше жить. Создание музея стало условием моего физического выживания.
Начав заниматься лагерной темой, многие пермские историки обнаружили репрессированных в своих собственных семьях. Татьяна Георгиевна Курсина, например, узнала, что ее родной дед был раскулачен и сослан.
– По семейной легенде, дед плакал два раза в жизни. Первый – когда умер Ленин. А второй – когда, вернувшись из ссылки, увидел, что стало с его лошадью, попавшей в коллективное пользование.
Эту историю Татьяна Георгиевна рассказывает приехавшим школьникам. Детей в бывшую зону возят регулярно. Сотрудники мемориального центра Пермь-36 разработали образовательную программу «Уроки истории в музее ГУЛАГа».
Татьяна Георгиевна читает вслух письмо ссыльных кулаков товарищу Сталину. «Дайте нам работу в мозолистые руки», «Мы вынуждены смотреть, как умирают от голода наши дети». На экране – документальная хроника: те самые кулаки, те самые дети. Над ними – алый транспарант «Марксизм вечен, ибо верен».
Школьники постепенно перестают ерзать и перешептываться, кажется, на глазах взрослеют. Татьяна Курсина – в отличие от молодого и эмоционального Олега Нечаева – не дает никаких оценок. Просто факты, документы. И в конце – несколько осторожных вопросов: «В чем виноваты эти люди? Почему произошло то, что произошло?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу