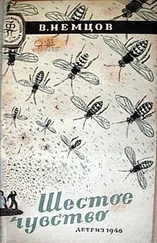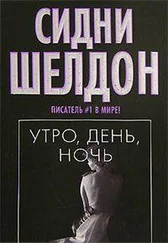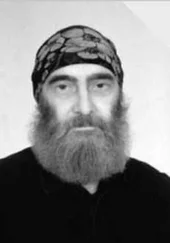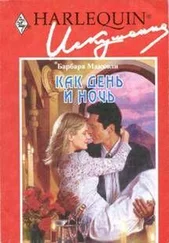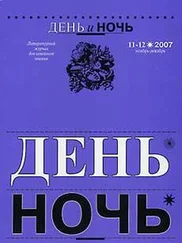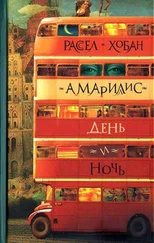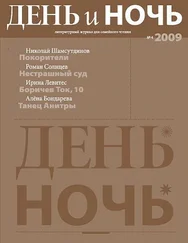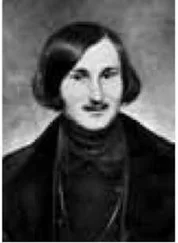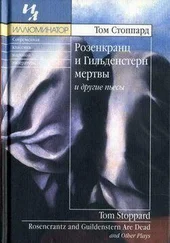У флейты сорвался голос.
Дрогнул и захлебнулся…
Эхо улиц и тонкий волос
на руке…
Утро,
как яблоко, надкушенное несмело.
— Утро, — шептали губы
флейты-Лены.
А потом внезапно зима кончилась.
Все разъехались в разные стороны.
Осталась бессонница
с длинным вдоль сердца корнем.
Нашёл себя в Доме Ильи, прежде чем стал популярным в сетевом пространстве, поэт из Обнинска Валерий Прокошин. Последние годы, а особенно после его смерти, о нём открыто говорят как о мощном одиноком мейнстриме современной поэзии. При жизни ему успели воздать должное и похвалой, и премией имени Марины Цветаевой. Но мы помним, что он был в числе первых завсегдатаев Ильи-Премии, когда о нём знали только в Калужской области. В главной своей прижизненной книге поэт мыслил себя, как и его 19-летний поэт-собрат, между Пушкиным и Бродским. «У поэта всегда есть вопрос, на который пока нет ответа», — заявил в начале своего творческого пути Валерий Прокошин. Но, словно поиграв словами, тотчас добавил: «У поэта всегда есть ответ, на который пока нет вопроса». И тем самым обозначил свой диапазон. Да, он дал в своих стихах ответы, на которые современные философы ещё только ставят вопросы. Его стихи стали ритмической попыткой бытия осветить себя внутренним светом из общака поэзии, завербованного будущим, которое подало Валерию Прокошину руку:
В январе этот вымерший город рифмуется с тундрой,
Потому что ветер срывается с крыш ледяною пудрой
И летит в переулки, которым названия нет,
Где божественный SOS отзывается полубандитской полундрой
И ментоловый вкус на губах от чужих сигарет.
Здесь чужие не ходят: шаг влево, шаг вправо — и мимо
Остановки, которой присвоят геройское имя
Отморозка пятнадцати или шестнадцати лет.
Переулками можно дойти до развалин Четвёртого Рима
И войти в кипячёные воды реки Интернет.
Впрочем, вся наша жизнь — электронная версия
Бога: Этот город, зима, и к тебе столбовая дорога —
Мимо церкви, по улице Ленина, дом номер два.
Если я иногда возвращаюсь к тебе, значит, мне одиноко
На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова.
Всё слова и слова, что рифмуются слева направо,
Невзирая на жизнь или смерть, словно божья отрава —
Боль стекает медовою каплей с пчелиной иглы.
В темноте переулками вдруг пронеслась отморозков орава:
Снегири, свиристели, клёсты, зимородки, щеглы.
Писал, будто чувствуя свой земной конец. Бог проходит сквозь каждого из нас жизнью, но только через избранных Словом. На одних он останавливается, других уводит за собой, ему тоже надо с помощью поэтов на том свете укреплять силу слова. Потому что наша самонадеянная попытка присвоить себе авторские права на Слово вынуждает Господа призывать лучших поэтов раньше срока. Потому что как на этом, так и на том свете без человека поэзия отсутствует.
Человек заполняет пустоты бытия не информационным, а поэтическим говорением — Словом, которого не хватило вначале. Сегодня Поэзия — бытие в оправе Бога, а благодаря ей и Бог — в формате бытия.
Печально, что никто не объяснил
Решительно никак природу слова.
Оно — начало доброго и злого,
С его уходом мир бы ощутил
Такую боль и глубину событья —
И вновь бы совершил своё открытье.
Мои слова, рождённые умом,
Ещё не став собой, уже солгали.
Но хуже то, что и в уме едва ли
Я их сказал бы о себе самом.
1999
Это из последних стихов Ильи Тюрина, где мысль неизречённая и немота им засчитаны по разряду лжи, а молчание — спасение. Но при этом молчание ещё и главная часть речи, которая звучит понятно на всех языках мира.
Только поэт после смерти не теряет права голоса. Больше того — часто приобретает Голос более сильный, мощный, который при жизни порой даже не прозвучал. И потому Дом Ильи продолжает активно собирать рифмующих всюду, формируя не союзы ЕДОмышленников, а отряды певчих, за плечами у которых стоит эпоха с перерезанным горлом, формируя современное состояние русской словесности. Как предсказывал Илья Тюрин, даже когда человечество охватывает немота, «…беспокойные пальцы рвут затишье». поэзии.
И теперь за горизонтом литературы, обгоняя течение фраз, реку родной речи, закованную в берега рифмы, несчётное множество раз переплывает гениальный мальчик, рождая новое звучание слова… Он плывёт через нашу жизнь по черновикам памяти, стараясь перебраться на другую сторону языка, где главная часть речи поэтов — молчание, исполняет на эшафоте бытия роль задумчивости ненаписанных стихов. Мы всё ещё слышим его шаги, которыми он растаптывает звуки тишины на дне последнего глотка истории. Он напоминает нам, что Поэзия — архив неиспользованной человеческой памяти, закупоренной практическим смыслом неизвестного нам пути, по которому Эпоху нужно ещё пронести вперёд стихами! Стихи — алиби поэта, который ничего не должен этому свету, всех дел у него — представить небу душу, зная при этом, что жизнь продолжается новой песней и оставшиеся здесь эту песню услышат.
Читать дальше
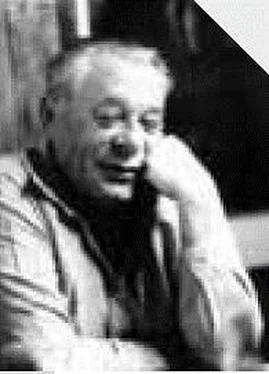
![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)